16:59 11-04-2006
Элвин Навсегда
Присев на корточки, уронив голову на сложенные руки, он задремал или замечтался, углубившись носом куда-то в далёкие воспоминания, в запахи нейлоновой ветровки. Вскинул голову — всё та же дымная вода залива, без горизонта, только вода, незаметно переходящая в небо вода. Он сидел у самого краешка холодной береговой линии, сквозь неглубокую плёнку просвечивали грустные камешки и одноцветный песок. Странно, что начало августа было таким холодным.
Сзади раздавались голоса: это мама, сестрёнка и ещё одна мама, чужая и молодая, с маленьким сынишкой. Теперь забылось, как его звали, но Чёрный Рыцарь играл с ним, крепко держа за руки и кружась с ним волчком, так, что малыш, визжащий от восторга, поднимался почти горизонтально земле. И ещё он обещал сестрёнке никогда-никогда её не обижать, и они поссорились на следующий же день, тут же и помирившись.
В низком хмуром небе летали чёрные точки, расписывая круги, и чуть пульсируя — так казалось, а на самом деле махая крыльями. На морском берегу были ещё сосны, Чёрный Рыцарь обернулся и увидел их, и ничего не подумал, это позже он будет думать, что в жизни было мало прекрасных минут, похожих на эти. Будущего он не знал, и знать не мог, что скоро, совсем скоро его руки покроются кевларовой коркой, тело станет железным, а сердце — огненным мотором. И прошлого он помнить не хотел, отодвигал в пыльный угол весь прошлый месяц, детский лагерь в чужой стране, месяц, за который он сделал удивительное открытие для своих двенадцати лет — что люди вовсе не добрые. Иногда они очень, очень злые.
Кажется, что эти сосны, и каменная стена в пяти метрах от береговой линии, и пасмурное небо, и холодное море — всё было живой картинкой того, что перемешивалось внутри, и как вещи, завдигаемые в пыльный угол, не желали там оставаться и лезли на свет, тусклый свет разума.
Он будет потом безуспешно искать встречи с холодным берегом и туманным горизонтом, с коршунами в тяжёлом небе, со странным ощущением счастья родной земли и затаившегося где-то рядом страха. Он повернулся, присев на колено и зачерпнул холодного, слипшегося песка. Присутствие родных людей рядом в эти минуты совсем не чувствовалось и невиданное ранее чувство одиночества, что появилось у него за этот месяц, вовсе никуда не исчезло, но снова поднялось из глубины. Холод его был приятен, по-новому необычно приятен.
Минуты — между прошлым и будущим, те недолгие минуты пребывания в равновесии с самим собой, словно в день весеннего равноденствия. Позади — наивная доброта, впереди — оправданная ненависть. Где-то в сердце спит будущая любовь, и где-то за серыми тучами небесная половинка ждёт будущих встреч. Элвин уже никогда не вернётся сюда, Элвин останется здесь навсегда.
Current music: Линда - Никогда
Сзади раздавались голоса: это мама, сестрёнка и ещё одна мама, чужая и молодая, с маленьким сынишкой. Теперь забылось, как его звали, но Чёрный Рыцарь играл с ним, крепко держа за руки и кружась с ним волчком, так, что малыш, визжащий от восторга, поднимался почти горизонтально земле. И ещё он обещал сестрёнке никогда-никогда её не обижать, и они поссорились на следующий же день, тут же и помирившись.
В низком хмуром небе летали чёрные точки, расписывая круги, и чуть пульсируя — так казалось, а на самом деле махая крыльями. На морском берегу были ещё сосны, Чёрный Рыцарь обернулся и увидел их, и ничего не подумал, это позже он будет думать, что в жизни было мало прекрасных минут, похожих на эти. Будущего он не знал, и знать не мог, что скоро, совсем скоро его руки покроются кевларовой коркой, тело станет железным, а сердце — огненным мотором. И прошлого он помнить не хотел, отодвигал в пыльный угол весь прошлый месяц, детский лагерь в чужой стране, месяц, за который он сделал удивительное открытие для своих двенадцати лет — что люди вовсе не добрые. Иногда они очень, очень злые.
Кажется, что эти сосны, и каменная стена в пяти метрах от береговой линии, и пасмурное небо, и холодное море — всё было живой картинкой того, что перемешивалось внутри, и как вещи, завдигаемые в пыльный угол, не желали там оставаться и лезли на свет, тусклый свет разума.
Он будет потом безуспешно искать встречи с холодным берегом и туманным горизонтом, с коршунами в тяжёлом небе, со странным ощущением счастья родной земли и затаившегося где-то рядом страха. Он повернулся, присев на колено и зачерпнул холодного, слипшегося песка. Присутствие родных людей рядом в эти минуты совсем не чувствовалось и невиданное ранее чувство одиночества, что появилось у него за этот месяц, вовсе никуда не исчезло, но снова поднялось из глубины. Холод его был приятен, по-новому необычно приятен.
Минуты — между прошлым и будущим, те недолгие минуты пребывания в равновесии с самим собой, словно в день весеннего равноденствия. Позади — наивная доброта, впереди — оправданная ненависть. Где-то в сердце спит будущая любовь, и где-то за серыми тучами небесная половинка ждёт будущих встреч. Элвин уже никогда не вернётся сюда, Элвин останется здесь навсегда.
* * *
никогда
этих снов никому
этих слов, только ветер знает,
там где я буду, навсегда, навсегда
посмотри
мы не одни, не забудь
крылья мои, ты иди по свету,
а значит это — я с тобой навсегда
назови
имя моё, позови
выйти в рассвет, не устать в дороге
я знаю — много, нам идти много лет
для тебя
эти дни, о тебе
эти сны на моих ладонях
тепло от моря, навсегда, навсегда…
никогда
этих снов никому
этих слов, только ветер знает,
там где я буду, навсегда, навсегда
посмотри
мы не одни, не забудь
крылья мои, ты иди по свету,
а значит это — я с тобой навсегда
назови
имя моё, позови
выйти в рассвет, не устать в дороге
я знаю — много, нам идти много лет
для тебя
эти дни, о тебе
эти сны на моих ладонях
тепло от моря, навсегда, навсегда…
Current music: Линда - Никогда
Группы: [ концептуальное ]
[ Оранжевая Книга ]
09:53 02-03-2006
Act Six
…она протащила его ещё немного, потом без сил сама повалилась рядом. Тяжёлое, чёрное, металлическое, совершенно неподъёмное тело лежало пластом, на спине, густая чёрная жидкость вытекала на траву. Солнечные блики сначала просто играли на чёрной поверхности, а затем тихо началось плавление: металл начал блестеть сильнее и изгибаться, но не гореть, а оставался таким же смоляным. Пошёл едкий дым.
Она с трудом села, положила его тяжёлую голову себе на колени, гладила, приговаривала и шептала: «потерпи, так надо, потерпи…»
Чёрный Рыцарь вздрогнул и, кажется, очнулся от боли. Он только тихо захрипел, сжал кулаки в два огромных кома, и, наконец, выдавил из себя:
— Зачем!… Зачем… Что ты наделала… Солнце… Слишком яркое…
— Всё хорошо будет, — сказала она, почти плача, — Ты потерпи, немножко, м?…
Стальная кожа изогнулась и местами лопнула, чёрная кровь пролилась из рваных ран. «Неужели я не права… Не может быть, всё должно быть так, всё правильно, не может быть… Да что же такое!…» — бормотала рыжеволосая девушка, она склонилась над самой его грудью, и слезы капнули на металл, немного облегчая страдания. Она прижалась к раскалённому железу, но её не жёг тот огонь, который мог пробраться через самую неуязвимую броню — он жёг только инородную этому миру оболочку Чёрного Рыцаря.
— Вытащи… — попросил Рыцарь, его голос был совсем тихим и глухим.
— А вдруг… ты… умрёшь… — её голос стал совсем неразборчивым из-за плача. И Рыцарь ответил:
— Я уже давно мёртв. Пожалуй, — прибавил он с едва уловимой усмешкой, — я могу теперь только ожить.
Из его груди всё ещё торчала стрела: золотистая, тонкая, ярко блестящая. Девушка кивнула, как будто обречённо, лишь длинные её жёлто-рыжие волосы встряхнулись, словно львиная грива. Она взялась за древко и легко вытащила стрелу, потом вдруг резко взяла её за оба конца и с удивительной силой переломила пополам. Едва уловимая тень пробежала по земле. В этот же момент Чёрный Рыцарь тяжело вздохнул, запрокинул голову и лицо его, чёрная маска с двумя адскими глазами и вертикальными прорезями вместо рта, обернулось к небу. Трещины на его броне соединились в одну сеть и кевларовый покров лопнул, разваливаясь на части…
…Ярко-зелёная равнина раскинулась во все стороны, с редкими порослями небольших коренастых деревьев, переходя вдали в разнорадужные поля цветов; не было тропинок, но она словно знала направление. Небо, отсвечивающее ванилью на западе, переходило в светло-перламутровое на востоке, ветерок был слаб и невероятно свеж. Далеко, у горизонта, куда они шли, синела горная гряда, и самая вершина отсвечивала снегами, сливаясь с небом.
Она — шла немного опустив голову, едва не путаясь в оборках длинного платья, жёлтого, с полосами пурпура и морской волны, в её непослушные волосы были вплетены мелкие бусинки и голубые рюшечки непонятного происхождения. Она, немного робко, держала за руку его.
Он — бледный и худощавый, в тесно-чёрном, так, что горловина наполовину скрывала шею, тонкая кожа обтягивала угловатыую кость и придавала лицу резкость, а длинные пальцы его были почти синие. Его волосы были очень коротко стриженые, скорее обозначались жёсткой щетиной на черепе. Глаза, с красным отливом, с тёмными кругами на коже под ними, остро глядели вниз, под ноги, и трава от его взгляда завядала и жухла. На черных штанах, на правом бедре был изображён оранжевый скорпион, изловчающийся ужалить себя в голову. И чем более пейзаж был сочным, и чем более солнце было ярким, тем более он казался бледным.
Она изредка поглядывала на него и улыбалась. Иногда они останавливались и просто смотрели друг на друга. Одна и та же мелодия слышалась им тогда, двум совсем разным парам ушей, и два таких разных носа — длинный и тощий и маленький и курносый — чуяли одни и те же дивные ароматы. Она погладила его по голове, чуть картинно скривила губы, потом говорила, как бы сама себе:
— Ну ничего, это мы отрастим, будут длинные и вьющиеся. И одежду тебе другую, тебе эта не идёт… Нет, совсем не твоя, — смеялась она. И указывала на скропиона:
— Нет, ну что это такое!
— Я… Трава, она… — он кивнул себе под ноги, и, обернувшись, они видели след со скукожившейся травой и чёрными следами, тянувшийся от того самого места вдалеке, где что-то неуместно чернело в зелени травы. Он посмотрел в сторону, на дерево — и тот час же оно засохло. О снова обречённо опустил взгляд.
— Да это ничего, ничего, — сказала она озадаченно и несколько растерянно, поджав губу.
— Повязку, — сказал он тихо но твёрдо. Некоторое время она колебалась, но потом оторвала край платья и повязала ему вокруг головы, покрыв глаза.
— Это со временем должно пройти, — сказал он, скорее чтобы хоть что-то сказать, и разрядить неловкость, — Хорошо у тебя тут, слишком хорошо… Веди меня.
Она улыбнулась и взяла его за руку:
— Пойдём… Чёрный мой Рыцарь!
И не слышал ещё он слов теплее.
Так они шли ещё. Долго. Потом они пришли.
На горном склоне, у водопада, был виден затерявшийся в розовой поросли весенней вишни домик, с квадратной выгнутой крышей, на японский манер.
— Вот, — сказала она, и, с надеждой взглянув на него, добавила:
— Ты видишь?
Он повернул голову с повязкой в ту сторону, где едва слышно шумела падающая вода.
— Да, — сказал он наконец, — Да, моя маленькая, моя Маленькая Инь… Теперь я вижу.
Она смущённо улыбнулась и глаза её блестнули, и потом она обняла его и прошептала в самое ухо:
— Здесь наш новый дом.
Current music: Yeong Wook Jo - The Last Waltz (‘Old Boy’ soundtrack)
Она с трудом села, положила его тяжёлую голову себе на колени, гладила, приговаривала и шептала: «потерпи, так надо, потерпи…»
Чёрный Рыцарь вздрогнул и, кажется, очнулся от боли. Он только тихо захрипел, сжал кулаки в два огромных кома, и, наконец, выдавил из себя:
— Зачем!… Зачем… Что ты наделала… Солнце… Слишком яркое…
— Всё хорошо будет, — сказала она, почти плача, — Ты потерпи, немножко, м?…
Стальная кожа изогнулась и местами лопнула, чёрная кровь пролилась из рваных ран. «Неужели я не права… Не может быть, всё должно быть так, всё правильно, не может быть… Да что же такое!…» — бормотала рыжеволосая девушка, она склонилась над самой его грудью, и слезы капнули на металл, немного облегчая страдания. Она прижалась к раскалённому железу, но её не жёг тот огонь, который мог пробраться через самую неуязвимую броню — он жёг только инородную этому миру оболочку Чёрного Рыцаря.
— Вытащи… — попросил Рыцарь, его голос был совсем тихим и глухим.
— А вдруг… ты… умрёшь… — её голос стал совсем неразборчивым из-за плача. И Рыцарь ответил:
— Я уже давно мёртв. Пожалуй, — прибавил он с едва уловимой усмешкой, — я могу теперь только ожить.
Из его груди всё ещё торчала стрела: золотистая, тонкая, ярко блестящая. Девушка кивнула, как будто обречённо, лишь длинные её жёлто-рыжие волосы встряхнулись, словно львиная грива. Она взялась за древко и легко вытащила стрелу, потом вдруг резко взяла её за оба конца и с удивительной силой переломила пополам. Едва уловимая тень пробежала по земле. В этот же момент Чёрный Рыцарь тяжело вздохнул, запрокинул голову и лицо его, чёрная маска с двумя адскими глазами и вертикальными прорезями вместо рта, обернулось к небу. Трещины на его броне соединились в одну сеть и кевларовый покров лопнул, разваливаясь на части…
…Ярко-зелёная равнина раскинулась во все стороны, с редкими порослями небольших коренастых деревьев, переходя вдали в разнорадужные поля цветов; не было тропинок, но она словно знала направление. Небо, отсвечивающее ванилью на западе, переходило в светло-перламутровое на востоке, ветерок был слаб и невероятно свеж. Далеко, у горизонта, куда они шли, синела горная гряда, и самая вершина отсвечивала снегами, сливаясь с небом.
Она — шла немного опустив голову, едва не путаясь в оборках длинного платья, жёлтого, с полосами пурпура и морской волны, в её непослушные волосы были вплетены мелкие бусинки и голубые рюшечки непонятного происхождения. Она, немного робко, держала за руку его.
Он — бледный и худощавый, в тесно-чёрном, так, что горловина наполовину скрывала шею, тонкая кожа обтягивала угловатыую кость и придавала лицу резкость, а длинные пальцы его были почти синие. Его волосы были очень коротко стриженые, скорее обозначались жёсткой щетиной на черепе. Глаза, с красным отливом, с тёмными кругами на коже под ними, остро глядели вниз, под ноги, и трава от его взгляда завядала и жухла. На черных штанах, на правом бедре был изображён оранжевый скорпион, изловчающийся ужалить себя в голову. И чем более пейзаж был сочным, и чем более солнце было ярким, тем более он казался бледным.
Она изредка поглядывала на него и улыбалась. Иногда они останавливались и просто смотрели друг на друга. Одна и та же мелодия слышалась им тогда, двум совсем разным парам ушей, и два таких разных носа — длинный и тощий и маленький и курносый — чуяли одни и те же дивные ароматы. Она погладила его по голове, чуть картинно скривила губы, потом говорила, как бы сама себе:
— Ну ничего, это мы отрастим, будут длинные и вьющиеся. И одежду тебе другую, тебе эта не идёт… Нет, совсем не твоя, — смеялась она. И указывала на скропиона:
— Нет, ну что это такое!
— Я… Трава, она… — он кивнул себе под ноги, и, обернувшись, они видели след со скукожившейся травой и чёрными следами, тянувшийся от того самого места вдалеке, где что-то неуместно чернело в зелени травы. Он посмотрел в сторону, на дерево — и тот час же оно засохло. О снова обречённо опустил взгляд.
— Да это ничего, ничего, — сказала она озадаченно и несколько растерянно, поджав губу.
— Повязку, — сказал он тихо но твёрдо. Некоторое время она колебалась, но потом оторвала край платья и повязала ему вокруг головы, покрыв глаза.
— Это со временем должно пройти, — сказал он, скорее чтобы хоть что-то сказать, и разрядить неловкость, — Хорошо у тебя тут, слишком хорошо… Веди меня.
Она улыбнулась и взяла его за руку:
— Пойдём… Чёрный мой Рыцарь!
И не слышал ещё он слов теплее.
Так они шли ещё. Долго. Потом они пришли.
На горном склоне, у водопада, был виден затерявшийся в розовой поросли весенней вишни домик, с квадратной выгнутой крышей, на японский манер.
— Вот, — сказала она, и, с надеждой взглянув на него, добавила:
— Ты видишь?
Он повернул голову с повязкой в ту сторону, где едва слышно шумела падающая вода.
— Да, — сказал он наконец, — Да, моя маленькая, моя Маленькая Инь… Теперь я вижу.
Она смущённо улыбнулась и глаза её блестнули, и потом она обняла его и прошептала в самое ухо:
— Здесь наш новый дом.
Current music: Yeong Wook Jo - The Last Waltz (‘Old Boy’ soundtrack)
Группы: [ Книга о Нас ]
[ Оранжевая Книга ]
Комментарии [16]
15:01 06-02-2006
Последняя
— Педофил, браток?
— Некрозоопедоорнитотоксидермит.
«Ночной базар»
— Некрозоопедоорнитотоксидермит.
«Ночной базар»
Ярко сияло… ну, понятно что. Тихо плескалась… ну, можно догадаться. Молчаливо запёкшиеся в жару скалы овевал лёгкий… ну, как обычно. В этот светлый день Ванёк спустился, даже вернее, скатился с откоса и оказался перед самой кромкой воды. Не было ни души, ни чаек не было, ни рыбаков; а если бы можно было копнуть глубоко и увеличить в тысячу раз — то не оказалось бы даже бактерий и микробов. Но мир не был мёртв — был мёртв сам Ванёк.
Ярко сияло — нестерпимо ярко. Живой мокрый песок скрипнул под развалившимися ботинками, живая мокрая вода лизнула носки. Ванёк выглядел теперь совсем молодо, и, кажется, недолго осталось до колыбели и агуканья вместо слов. Он сел на корточки, сильно сощурившись всем лицом глянул на горизонт, потом долго смотрел в воду, как там играли смешные блики-зайчишки. И, обращаясь вернее всего к морю, заговорил:
— Видишь, доказал всем, какое они ничтожество и какой я хороший, а всё равно не радостно. Искал тебя то там то сям — и мне ведь казалось, понимашь, будто находил — а ты здесь, а остальное только кажется. А как хотелось, чтобы было не впонарошку, а чтобы все видели! Ради этого, скажи, ну ради этого-то разве не стоит приврать? Да и как узнать, лукавишь ты или нет, когда настолько хочешь чтобы было так, что тебе кажется, будто это на самом деле есть. Вот скажи, за что же ещё любить, как только не за тебя? Неужели что-то есть другое, достойное влечения, любования, привязанности? Да, да, я слышал, то есть я знаю, что у них там внутри что-то такое же есть, хотя они и не все это так же ценят, как я тебя, но если и так — как это может быть ценным для меня? Вначале мне казалось, будто ты везде один, и все тебя видят, и видят-то одинаково, а потом оказалось, что тебя вижу только я. О, ну ты же знаешь, я не сдавался… Глупо, но не сдавался зачем-то, всё думал, что ладно, пусть невежды и злые люди не видят, но должен же быть кто-то — хоть кто-то! — кто видит тебя так же. А тут выходит, что можно… как же это, можно и без этого? И не злые, а хорошие вполне, и даже тобою наполненные, но тебя не видят и не чувствуют, а если и чувствуют — то совсем не так, а значит, что и не тебя вовсе, а непонятно что. Ты-то хоть меня понимаешь?
Ванёк с надеждой посмотрел на воду и волна накатила в ответ. Он окунул ладони в прохладную воду и ребристые блики побежали по коже. Ванёк потёр руки, как бы умывая невидимую грязь, стекающие с пальцев капли зазолотились в солнечных лучах.
— Да, — сказал он наконец, — я могу и так, что тут, скажите на милость, сложного? Могу и так, пусть никто не видит, даже она. Может быть, я больно тебе сделал, что так тебя показывал — но ты прости глупого, я не со зла, ну ты же знаешь. Просто верил ведь всегда, что непременно найду такого друга, который увидит тебя, который будет сидеть вот тут рядом, слушать чаек и всё такое. А тут и чаек нет, они слишком живые, чтобы видеть тебя. Живое, мыслящее — тебя осквернит. Нет, не говори только, пожалуйста, что я тебя выдумал! Что ты только для меня, и тебя нет! Это… это я и так знаю, это мне любой скажет, да я и слушать не буду, мне эти мнения вообще неинтересны… Да будут во веки вечные благословенны шизофреники.
Солнце клонилось к закату.
— А если и не смогу, то значит, пусть не смогу никогда, нечего и пытаться. Ведь не из-за того мне, может быть, больно, что она не может увидеть, а из-за того, что я не могу увидеть, что там у неё такое, вроде тебя, только совсем-совсем неинтересное. Ссоры, ссоры, всё ни к чему, и что важнее — ни о чём по сути. Если не смогу, то уйду в свой маленький монастырь до конца дней своих дурацких, и больше никого не надо, хватит, пусть останется она у меня последняя.
И с этими словами Ванёк вынул из кармана рюмку с коньяком на два пальца, и решительно вылил его в воду.
волнам
не стоит молчать
если знают, где ветра искать
он уходит
с ключами в руке
напевая на чужом языке:
на песке не осталось
ничего, что казалось
будто в чашке плескалась
кофе самая малость
и пролилась…
не стоит молчать
если знают, где ветра искать
он уходит
с ключами в руке
напевая на чужом языке:
на песке не осталось
ничего, что казалось
будто в чашке плескалась
кофе самая малость
и пролилась…
Current music: Tequilajazzz - Последняя
Группы: [ Оранжевая Книга ]
20:41 31-01-2006
401
Вечеринка по поводу трёхлетия моего дневника длится уже вторую ночь, и разумное, конечно же, возьмёт верх над стихийным в конце концов; но пока — пока можно и пожить. Зима на исходе: ещё одно маленькое усилие, и она закончится жданной весною. Пьяные друзья и подруги лежат вперемежку на полу и я не могу определить, кто и где, ни лиц, ни пола; и ничего знакомого нет ни в какой из теней, но все они в целом есть одно существо: большое, глупое и симпатичное. Если приглядеться, можно увидеть, что оно медленно шевелится, но это заметно только по колыханию неровного оконного прямоугольника с вытянутыми тенями штор, распластавшегося по материям и спинам.
Открытая форточка над головой меняет кольца дыма сигарет на уличный ветер, и он свежит, и он бубнит что-то неразборчивым рассветным гулом. Теперь, в этой водолазке с обтрёпанными манжетами, пропахшей «честерфилдом» я буду узнаваем даже на ощупь. Друзья спят, а моё дело — курить и бодрствовать, в этом задача, и да поможет мне в этом пиво в трёхлитровой. Но банка далеко, и тянуться лень. Да и состояние такое, когда пиво безвкусно, водка не лезет, и ни то ни другое уже ничего не могут изменить в моём самочувствии. Я бы пил коньяк, и пожалуй пусть в моей руке ненавязчиво окажется небольшая рюмочка, и в ней всего-то на два пальца. Не чтобы пить, а чтобы держать и иногда принюхиваться.
А как закрою глаза, то сразу вижу самолёт, игрушечный, но вполне летающий. Он стоит на мокрой траве, и вот он разгоняется прямо перед глазами, и вот уже трава хлещет по подбородку, уши — крылья, а голова — пропеллер, я взлетаю и ослепительный голубой дурман врезается в ноздри, в щёки, в какие-то нервы, которые спят в городской толпе, всё чувствует, всё живёт, парит, взмывает!… Или же не самолёт, а оранжевый воздушный змей с рисунком в виде огромной муравьиной головы на спине, он ударятеся об солнце, земля и небо меняются местами и вращаются вокруг точки ярких лучей…
А как открою глаза, то вижу стены и силуэты полок, торчащие из-под тел очертания кроватей и столов, чёрные доспехи на стене и детские рисунки рядом же, совершенно серые и неразличимые, а в коридоре на тюфяке дремлет собака. Докуриваю сигарету, плющу в жестяной коробочке, потом ковыряю обугленное пятно слева, на груди. Where you want to go today? Всё равно. Везде поспеть немудрено.
Перед восходом солнца — не надышишься. Жду громового оркестра дня, но не люблю предательское светание, когда магия тёмных вещей высмеивается блекнущим небом, когда сумеречное таинство победоносно разоблачается набирающим силу рассветом. Пусть будет день, яркий и полноводный, волны ветра запутаются в травах, и ржавые рельсы яро распорят брюхо Природы, чтобы вскоре бесследно врасти в неё, возвращаясь в ласковые руки матери. Так и я врасту когда-нибудь, когда город этот, и улицы его, и рекламы, и фонари, и автобусы медленно и неуклонно утонут в объятиях той, которая больше не судит и умеет прощать.
И вот, когда лучи солнца начинают смело гулять по стенам, я выхожу в океан запахов и прохлады. Спешат сонные автобусы, где едут сонные добрые люди. Главная шарада во мне и для меня: что значат стены набережной, и колонны моста, и железные ограды? Почему такую важность имеет моя джинсовая куртка с удобными и большими внутренними карманами? Я смотрю на реку, превратившуюся в маленькое море, и всё в порядке, потому что рука нащупывает в том самом кармане слева полуполную пачку сигарет…
Жаль, что тебе на всё это насрать.
И нет в этом ничего дурного, это справедливо, ведь и мне плевать на твой малопонятный мир. Ветхозаветная справедливость проста и точна: выколоть глаз за глаз, откусить ухо за ухо. Куда сложнее и туманнее другая справедливость, как в давнишнем фильме про Христа: когда за Ним пришли, и Пётр отрубил ухо стражнику, Иисус приложил руку и оно приросло обратно как было. Очень хочется домой, и если Иисус Христос вернётся к своей блуднице, то и мертвецы устало побредут в сторону рассвета, где им светит когда-нибудь новая жизнь.
Current music: Tequilajazzz - Склянка запасного огня
Открытая форточка над головой меняет кольца дыма сигарет на уличный ветер, и он свежит, и он бубнит что-то неразборчивым рассветным гулом. Теперь, в этой водолазке с обтрёпанными манжетами, пропахшей «честерфилдом» я буду узнаваем даже на ощупь. Друзья спят, а моё дело — курить и бодрствовать, в этом задача, и да поможет мне в этом пиво в трёхлитровой. Но банка далеко, и тянуться лень. Да и состояние такое, когда пиво безвкусно, водка не лезет, и ни то ни другое уже ничего не могут изменить в моём самочувствии. Я бы пил коньяк, и пожалуй пусть в моей руке ненавязчиво окажется небольшая рюмочка, и в ней всего-то на два пальца. Не чтобы пить, а чтобы держать и иногда принюхиваться.
А как закрою глаза, то сразу вижу самолёт, игрушечный, но вполне летающий. Он стоит на мокрой траве, и вот он разгоняется прямо перед глазами, и вот уже трава хлещет по подбородку, уши — крылья, а голова — пропеллер, я взлетаю и ослепительный голубой дурман врезается в ноздри, в щёки, в какие-то нервы, которые спят в городской толпе, всё чувствует, всё живёт, парит, взмывает!… Или же не самолёт, а оранжевый воздушный змей с рисунком в виде огромной муравьиной головы на спине, он ударятеся об солнце, земля и небо меняются местами и вращаются вокруг точки ярких лучей…
А как открою глаза, то вижу стены и силуэты полок, торчащие из-под тел очертания кроватей и столов, чёрные доспехи на стене и детские рисунки рядом же, совершенно серые и неразличимые, а в коридоре на тюфяке дремлет собака. Докуриваю сигарету, плющу в жестяной коробочке, потом ковыряю обугленное пятно слева, на груди. Where you want to go today? Всё равно. Везде поспеть немудрено.
Перед восходом солнца — не надышишься. Жду громового оркестра дня, но не люблю предательское светание, когда магия тёмных вещей высмеивается блекнущим небом, когда сумеречное таинство победоносно разоблачается набирающим силу рассветом. Пусть будет день, яркий и полноводный, волны ветра запутаются в травах, и ржавые рельсы яро распорят брюхо Природы, чтобы вскоре бесследно врасти в неё, возвращаясь в ласковые руки матери. Так и я врасту когда-нибудь, когда город этот, и улицы его, и рекламы, и фонари, и автобусы медленно и неуклонно утонут в объятиях той, которая больше не судит и умеет прощать.
И вот, когда лучи солнца начинают смело гулять по стенам, я выхожу в океан запахов и прохлады. Спешат сонные автобусы, где едут сонные добрые люди. Главная шарада во мне и для меня: что значат стены набережной, и колонны моста, и железные ограды? Почему такую важность имеет моя джинсовая куртка с удобными и большими внутренними карманами? Я смотрю на реку, превратившуюся в маленькое море, и всё в порядке, потому что рука нащупывает в том самом кармане слева полуполную пачку сигарет…
Жаль, что тебе на всё это насрать.
И нет в этом ничего дурного, это справедливо, ведь и мне плевать на твой малопонятный мир. Ветхозаветная справедливость проста и точна: выколоть глаз за глаз, откусить ухо за ухо. Куда сложнее и туманнее другая справедливость, как в давнишнем фильме про Христа: когда за Ним пришли, и Пётр отрубил ухо стражнику, Иисус приложил руку и оно приросло обратно как было. Очень хочется домой, и если Иисус Христос вернётся к своей блуднице, то и мертвецы устало побредут в сторону рассвета, где им светит когда-нибудь новая жизнь.
* * *
если в окна ветром
ночью будишь ты меня
не включая света
открываю окна я
подойди поближе
видишь: ниже,
прямо под луной
ливнем не обижен
оживает мир ночной…
если ты под утро
на листве холодной спишь
долбишь Кама-Сутру
и не веришь в пользу крыш
приснись мне где-нибудь поближе
где увижу
я твой путь ночной
я точно не обижусь
и отправлюсь за тобой…
вот и дверь,
за нею — звери
вдаль бредут толпой
верь — не верь
они за той отравленной иглой
но только здесь — моя империя
со мной всегда моя
склянка запасного огня
и с нею — я
если в окна ветром
ночью будишь ты меня
не включая света
открываю окна я
подойди поближе
видишь: ниже,
прямо под луной
ливнем не обижен
оживает мир ночной…
если ты под утро
на листве холодной спишь
долбишь Кама-Сутру
и не веришь в пользу крыш
приснись мне где-нибудь поближе
где увижу
я твой путь ночной
я точно не обижусь
и отправлюсь за тобой…
вот и дверь,
за нею — звери
вдаль бредут толпой
верь — не верь
они за той отравленной иглой
но только здесь — моя империя
со мной всегда моя
склянка запасного огня
и с нею — я
Current music: Tequilajazzz - Склянка запасного огня
Группы: [ концептуальное ]
[ Оранжевая Книга ]
Комментарии [8]
12:07 09-12-2005
Ванёк
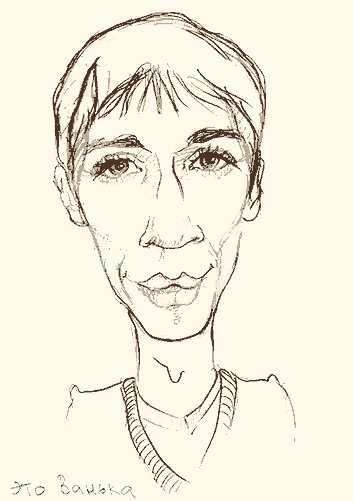
Группы: [ Оранжевая Книга ]
Комментарии [11]
15:15 01-12-2005
Herz Brennt
Долго-долго сидели и смотрели друг на друга Мальчик и Чёрный Рыцарь. За горизонтом моря заблудилось солнце, и в свете конца ночи силуэты их казались гротескными. Собака сидела рядом и смотрела за край воды, на восток. Мальчик сидел легко, Рыцарь же скособочился неуютно, напряжённо, его железные ступни зарылись в холодный песок.
На груди у Рыцаря, справа, виднелось жаркое пятнышко: его броня была раскалена.
— Не могу я так больше, — выдохнул наконец он.
— Всё это время мог, а теперь не можешь, — после короткой паузы возразил Мальчик тихо.
— Раньше всё было просто: вот они, а вот мы… А сейчас… Бить некого! — горько бросил Чёрный Рыцарь.
— Тебе бы драться.
— А как? У тебя-то Собака, тебе драться к чему? Она только гавкнет — и всё… А у меня — только мой меч!
— Она не гавкает, — возразил Мальчик, и нежно погладил Собаку между ушей.
Некоторое время они молчали. Потом Чёрный Рыцарь снова сказал:
— Не могу я так больше… Не могу я просто прийти и всё! Она же не заслуживает…
Мальчик повернул голову к Рыцарю и слегка поднял бровь.
— Нет, не то, не то, — махнул рукой Рыцарь, — Я хочу сказать, что не могу, нельзя продаваться так дёшево!
— Так уйди!
— Это слишком просто! — почти крикнул Чёрный Рыцарь, — Я убью её!
— Не надо…
— А что же делать? Распинаться, говорить, убеждать — устал, без толку все эти разговоры, что ей…
— Тогда молчи.
Снова наступила тишина и было слышно только мерное дыхание моря.
Чёрный Рыцарь положил ладонь на то место, где ярко горело пятно. Кажется, пошёл небольшой дымок.
— Не любит она меня… Тебя она любит, — сказал он, — А меня как будто и нет вовсе — смотрит и не видит, словно я так, лёгкая тень, паутинка, которую смахнуть можно — не жалко. А ведь я… Ведь сердце, моё сердце пылает!… Сгорю скоро, расплавлюсь, и меня не станет…
Мальчик опустил голову и смотрел на маленького мурашика в песке. Рыцарь тихо добавил:
— Останешься тогда только ты, Мальчик с Собакой… Чёрт, может так оно и надо, судьба моя чёрная такая…
Он поднялся и пошёл прочь. Над горизонтом блеснуло солнце; немного после, когда оно уже поднялось над водой, Мальчик тоже медленно встал, свистнул Собаке и они пошли вдоль берега вдвоём.
Current music: Rammstein - Mein Herz Brennt
На груди у Рыцаря, справа, виднелось жаркое пятнышко: его броня была раскалена.
— Не могу я так больше, — выдохнул наконец он.
— Всё это время мог, а теперь не можешь, — после короткой паузы возразил Мальчик тихо.
— Раньше всё было просто: вот они, а вот мы… А сейчас… Бить некого! — горько бросил Чёрный Рыцарь.
— Тебе бы драться.
— А как? У тебя-то Собака, тебе драться к чему? Она только гавкнет — и всё… А у меня — только мой меч!
— Она не гавкает, — возразил Мальчик, и нежно погладил Собаку между ушей.
Некоторое время они молчали. Потом Чёрный Рыцарь снова сказал:
— Не могу я так больше… Не могу я просто прийти и всё! Она же не заслуживает…
Мальчик повернул голову к Рыцарю и слегка поднял бровь.
— Нет, не то, не то, — махнул рукой Рыцарь, — Я хочу сказать, что не могу, нельзя продаваться так дёшево!
— Так уйди!
— Это слишком просто! — почти крикнул Чёрный Рыцарь, — Я убью её!
— Не надо…
— А что же делать? Распинаться, говорить, убеждать — устал, без толку все эти разговоры, что ей…
— Тогда молчи.
Снова наступила тишина и было слышно только мерное дыхание моря.
Чёрный Рыцарь положил ладонь на то место, где ярко горело пятно. Кажется, пошёл небольшой дымок.
— Не любит она меня… Тебя она любит, — сказал он, — А меня как будто и нет вовсе — смотрит и не видит, словно я так, лёгкая тень, паутинка, которую смахнуть можно — не жалко. А ведь я… Ведь сердце, моё сердце пылает!… Сгорю скоро, расплавлюсь, и меня не станет…
Мальчик опустил голову и смотрел на маленького мурашика в песке. Рыцарь тихо добавил:
— Останешься тогда только ты, Мальчик с Собакой… Чёрт, может так оно и надо, судьба моя чёрная такая…
Он поднялся и пошёл прочь. Над горизонтом блеснуло солнце; немного после, когда оно уже поднялось над водой, Мальчик тоже медленно встал, свистнул Собаке и они пошли вдоль берега вдвоём.
Current music: Rammstein - Mein Herz Brennt
Группы: [ Оранжевая Книга ]
Комментарии [7]
23:36 31-07-2005
Князь Страха
Начало и конец, всё начинается для того, чтобы кончиться.
Ваньку снился чёрный квадрат в темноте. Бархатно-чёрный квадрат в глубине Космоса, лишённого звёзд. Таким он был до зарождения, таким будет после. Невообразимо представить эту бесконечность высоты, ширины, расстояния и времени; невозможно было понять размеры чёрного квадрата: то он казался величиной с ладонь, то замещал собой всё сущее.
Сущее было липким и холодным, как пот.
Чёрный квадрат медленно сменился белой пустотой, брызнувшей сквозь попытку разлепить веки. Из небытия всплыли белые квадраты из пенопласта, на которые был разбит равнодушный потолок.
В ушах застыл неприятный звук, как будто остановленный во мгновении звук железа, скворчащего по стеклу. И весь мир был застывшим внутри вязкого, застекленевшего воздуха. Ванёк попробовал дышать — и не смог, жидкое стекло не затекало в лёгкие. Остановилось время и оставновило оно все звуки в жуткой, первозданной тишине, и только застывшая нота стекла звенела где-то на пределе слышимости.
Ванёк не мог даже дрожать, всё это уже было где-то, было на что-то похоже, но он не мог вспомнить, на что. Страшно не было, этот страх не был из тех земных категорий, он был первобытным, как тот миг, в котором застыло всё бытиё, он был не страшным, но самой сущностью Страха. Беспомощной секундой, которая подавила само время и движения — сопротивляться ей было невозможно. Ванёк всё же начал понимать, что будет дальше, он хотел сбросить одеяло, но оно скрутило Ванька тугим узлом, а руки, размякшие в дребезжащей немощности, не могли сделать ни одного движения. И то, что предчувствовалось, произошло.
Голос, повторявший на памяти Ванька только одну неразборчивую фразу в моменты слабости, Голос этот внятно проник в самый центр сознания. Он говорил не словами, хотя Ванёк отчётливо слышал звуки. Это был не язык речи, Голос лишь давал понять себя.
— Вот мы и здесь, куда ты так стремился. Что теперь?
Убежать! Убежать, только бы не здесь! Но даже глаза не слушались Ванька и упорно смотрели вверх, где сквозь штампованный узор пенопласта проступили другие, чужие черты. Круглое, бесстрастное лицо и два близко сидящих глаза. Ванёк видел, но в то же время не мог ничего разглядеть.
— Ты видишь, всё кончено. Что может быть больше?
Ванёк снова попытался представить то, о чём думал все прошедшие дни, но весь путь представился ему унылой безжизненностью. Все начинания приходили к бесполезности, все устремления были одной нелепой бессмысленностью, все чаяния приводили сюда, к одной большой цели — которой нет. А потом? Жизнь, нелепая, как сама смерть, просто дни существования. Смерть. Пустота? А потом? Голос и и говорил, и молчал, но Ванёк всё видел сам: холодные небеса, неприветливых крылатых существ, неприязненно взирающих куда-то мимо из-под высоких воротников толстых шуб, туманную, постылую даль, где витают такие же дикие, обезумевшие, неприкаянные. Там его никто не ждал, там он никому не был нужен, там никто никому не нужен.
— А где твой бог? Где он теперь?
Ванёк силился представить, но не смог. Не было никакого намёка на что-то ещё кроме скрипучей тишины и двух немигающих глаз напротив. Ванёк вызывал в памяти самое светлое: лицо Учителя, но и оно вдруг стало далёкой, блеклой картинкой, просто листком бумаги.
— Никто не поможет тебе теперь. А знаешь, почему?
Ванёк знал. Он хотел шепнуть: «не надо, не продолжай!», но Голос вещал:
— Всё это время, все два десятка лет я был с тобой. Я говорил с тобой, но разве ты слушал! Я показывал как мог, я вводил тебя во все тяжкие, только чтобы ты понял! Ведь мир чёток и жёсток, прост и давно изучен, у него есть свод несложных правил, грубых — да, но работающих. Справедливость! Это только то, что кажется. Доброта! Это просто поступки. Но нет, ты забивал себе голову фантазиями, ты упорно не хотел принять самую очевидность, ты видел только то, что желал видеть. В какую чушь ты верил, и всегда было тебе, что возразить. Ты почти приходил к пониманию — и снова убегал, снова находил оправдание, только чтобы не смотреть в глаза разуму. Очнись теперь! Нечем теперь крыть! Узри, что нет ничего, кроме этой жизни, нет богов и учителей, нет никаких миров — всё фантазии. Просто фантазии. Зачем боролся со мной, думая одержать победу? Пойми же, меня нельзя победить. Потому что есть только я.
Ванёк пытался соображать, но этого ему просто не хотелось. Всё, чего бы он желал — не умереть нет, только не к бездушным ангелам! — но потухнуть, просто выключиться, как лампочка. Перестать быть. И всё же он возразил:
— А ты… Разве сам ты реален?
— Нет, — последовал незамедлительный ответ, — Я лишь воображение твоих нервных клеток. Ты сам говоришь с собой. Но это не важно. Важно, что ты понимаешь. Я — это ты, настоящий ты. Я — это то, что реально.
Нет, нет, думал Ванёк, ведь есть же что-то… Хоть что-то…
— Ты всё не желал переделываться под мир. Ты горд — горд, как я сам, — продолжал Голос, и снова в нём не было не единой эмоции, — И всё искал что-то непонятное, как будто кнопку, которую стоит найти только и надавить — и вдруг тотчас мир станет таким, каким ты его хочешь видеть. Вот, взгляни. Ты нашёл её. Это то, что ты искал?
Ванёк теперь смог повернуть голову, словно Хозяин Голоса вдруг ему позволил. Справа, повернувшись спиной, смешавшись в нелепый ком с простынёй и одеялом, была она. Она спала. Она даже не дышала. Она была призраком, непонятной, неживой, только ткань и волосы. Ванёк вспомнил, что не дышал сам, и пытался вдохнуть, но только захлебнулся густым, липким воздухом, который не входил в гортань. Безумно хотелось заплакать, но он не мог, что-то не пускало его.
— Это то, что ты искал? Это она?
И Ванёк смог оглядеть застывшие стены чужой квартиры, чужой, враждебный воздух, не его, случайное, неприятное, непричастное. Что он здесь делает? Как он мог, как мог он сюда попасть? Влезть в чужое. О чём он думал? Всё не так… Всё бесполезно… если только…
— Проснись! — Ванёк хотел прокричать, но вырвался лишь еле слышный сип. Он попробовал громче и громче, но вырывался лишь шёпот: — Проснись, пожалуйста, проснись!… Слышишь?…
Он протянул руку и отдёрнул: её кожа была холодная. Ледяная. Теперь точно всё. И нет спасения. Какое может быть спасение! Если бы она хотя бы пошевилилась, если бы проснулась, повернулась к нему, он бы плакал, а она бы обняла его и гладила рукой по голове, как мама, утешая. Как мама. Может, он искал именно маму? Маму, настоящую, другую, не холодную и жестокую — а настоящую тёплую, его, родную, понимающую. Но находил только отражения той, реальной.
И Голос продолжал что-то ещё:
— Теперь ты видишь, что нужно было слушать только меня. Да, таково положение вещей, но его нужно принять объективно. Того тебя, которого ты себе представлял и хотел выдать другим — нет. Есть только жалкое существо, которое валяется сейчас на осколках своих бесплодных мечтаний — и осколки эти остры…
Теперь Ванёк вспомнил этот голос — он был другим, и голос стал от этого окрашен в другой оттенок. Это был его собственный голос, каким он слышал его, говоря с собой, с чужой, враждебной, рациональной, хладной своей частью. Да, он помнил его, помнил во всех снах…
Я же убил тебя! Ванёк помнил этот сон хорошо, когда он навсегда разделался со своим ночным кошмаром.
— Я стал сильнее, — прошипел Голос.
И теперь это был странный проблеск. Нет, не надежды. Невозможно было пробиться сюда ничему светлому. Но лёгким ветерком вдруг коснулось Ванька то, что соседствовало страху и отчаянию — злоба. И лёд чуть потёк, и сдвинулось время.
Пусть бессильна была ваньковская злоба, но он поднялся на кровати, продравшись сквозь мертвенную пустоту и мутно посмотрел в глаза Князю Тьмы:
— Врёшь!
И уже больше не глядя в потолок, автоматически, боясь потерять то, что даже и удалось нащупать, он одевался, и собирался. И за его спиной кто-то просыпался, но это уже было где-то на другом конце его сознания. Происходили слова и движения, но Ванёк был занят только тщетным, жгучим желанием выжить, не умереть, только существовать, дышать, только бы не упустить, ухватиться за тень злобы, какой-то оттенок человеческого чувства.
И он вырвался, он покинул стены, и оказался на воздухе. Первый день весны был потоплен тишиной густого снегопада. Но здесь было всё же теплее чем там. Ноги подгибались, и Ванёк шёл, сам едва ли понимая куда — к остановке ли, по тропинке ли — прочь, только прочь подальше от холода, от одиночества тех мест, где нет жизни и тепла, нет света и любви — где нет его, Ванька, и без него дома эти одиноки.
Там, сзади, он чувствовал, у окна стояла она и смотрела вслед. Идти было некуда и незачем, вокруг было только слепящее белое марево. И всё же он пошёл вперёд, туда, где за сорок тысяч километров, за бесконечными стенами снегопадов детская мечта ждала его, и там был его дом.
Current music: Чёрный Лукич - В одинокие дома
Ваньку снился чёрный квадрат в темноте. Бархатно-чёрный квадрат в глубине Космоса, лишённого звёзд. Таким он был до зарождения, таким будет после. Невообразимо представить эту бесконечность высоты, ширины, расстояния и времени; невозможно было понять размеры чёрного квадрата: то он казался величиной с ладонь, то замещал собой всё сущее.
Сущее было липким и холодным, как пот.
Чёрный квадрат медленно сменился белой пустотой, брызнувшей сквозь попытку разлепить веки. Из небытия всплыли белые квадраты из пенопласта, на которые был разбит равнодушный потолок.
В ушах застыл неприятный звук, как будто остановленный во мгновении звук железа, скворчащего по стеклу. И весь мир был застывшим внутри вязкого, застекленевшего воздуха. Ванёк попробовал дышать — и не смог, жидкое стекло не затекало в лёгкие. Остановилось время и оставновило оно все звуки в жуткой, первозданной тишине, и только застывшая нота стекла звенела где-то на пределе слышимости.
Ванёк не мог даже дрожать, всё это уже было где-то, было на что-то похоже, но он не мог вспомнить, на что. Страшно не было, этот страх не был из тех земных категорий, он был первобытным, как тот миг, в котором застыло всё бытиё, он был не страшным, но самой сущностью Страха. Беспомощной секундой, которая подавила само время и движения — сопротивляться ей было невозможно. Ванёк всё же начал понимать, что будет дальше, он хотел сбросить одеяло, но оно скрутило Ванька тугим узлом, а руки, размякшие в дребезжащей немощности, не могли сделать ни одного движения. И то, что предчувствовалось, произошло.
Голос, повторявший на памяти Ванька только одну неразборчивую фразу в моменты слабости, Голос этот внятно проник в самый центр сознания. Он говорил не словами, хотя Ванёк отчётливо слышал звуки. Это был не язык речи, Голос лишь давал понять себя.
— Вот мы и здесь, куда ты так стремился. Что теперь?
Убежать! Убежать, только бы не здесь! Но даже глаза не слушались Ванька и упорно смотрели вверх, где сквозь штампованный узор пенопласта проступили другие, чужие черты. Круглое, бесстрастное лицо и два близко сидящих глаза. Ванёк видел, но в то же время не мог ничего разглядеть.
— Ты видишь, всё кончено. Что может быть больше?
Ванёк снова попытался представить то, о чём думал все прошедшие дни, но весь путь представился ему унылой безжизненностью. Все начинания приходили к бесполезности, все устремления были одной нелепой бессмысленностью, все чаяния приводили сюда, к одной большой цели — которой нет. А потом? Жизнь, нелепая, как сама смерть, просто дни существования. Смерть. Пустота? А потом? Голос и и говорил, и молчал, но Ванёк всё видел сам: холодные небеса, неприветливых крылатых существ, неприязненно взирающих куда-то мимо из-под высоких воротников толстых шуб, туманную, постылую даль, где витают такие же дикие, обезумевшие, неприкаянные. Там его никто не ждал, там он никому не был нужен, там никто никому не нужен.
— А где твой бог? Где он теперь?
Ванёк силился представить, но не смог. Не было никакого намёка на что-то ещё кроме скрипучей тишины и двух немигающих глаз напротив. Ванёк вызывал в памяти самое светлое: лицо Учителя, но и оно вдруг стало далёкой, блеклой картинкой, просто листком бумаги.
— Никто не поможет тебе теперь. А знаешь, почему?
Ванёк знал. Он хотел шепнуть: «не надо, не продолжай!», но Голос вещал:
— Всё это время, все два десятка лет я был с тобой. Я говорил с тобой, но разве ты слушал! Я показывал как мог, я вводил тебя во все тяжкие, только чтобы ты понял! Ведь мир чёток и жёсток, прост и давно изучен, у него есть свод несложных правил, грубых — да, но работающих. Справедливость! Это только то, что кажется. Доброта! Это просто поступки. Но нет, ты забивал себе голову фантазиями, ты упорно не хотел принять самую очевидность, ты видел только то, что желал видеть. В какую чушь ты верил, и всегда было тебе, что возразить. Ты почти приходил к пониманию — и снова убегал, снова находил оправдание, только чтобы не смотреть в глаза разуму. Очнись теперь! Нечем теперь крыть! Узри, что нет ничего, кроме этой жизни, нет богов и учителей, нет никаких миров — всё фантазии. Просто фантазии. Зачем боролся со мной, думая одержать победу? Пойми же, меня нельзя победить. Потому что есть только я.
Ванёк пытался соображать, но этого ему просто не хотелось. Всё, чего бы он желал — не умереть нет, только не к бездушным ангелам! — но потухнуть, просто выключиться, как лампочка. Перестать быть. И всё же он возразил:
— А ты… Разве сам ты реален?
— Нет, — последовал незамедлительный ответ, — Я лишь воображение твоих нервных клеток. Ты сам говоришь с собой. Но это не важно. Важно, что ты понимаешь. Я — это ты, настоящий ты. Я — это то, что реально.
Нет, нет, думал Ванёк, ведь есть же что-то… Хоть что-то…
— Ты всё не желал переделываться под мир. Ты горд — горд, как я сам, — продолжал Голос, и снова в нём не было не единой эмоции, — И всё искал что-то непонятное, как будто кнопку, которую стоит найти только и надавить — и вдруг тотчас мир станет таким, каким ты его хочешь видеть. Вот, взгляни. Ты нашёл её. Это то, что ты искал?
Ванёк теперь смог повернуть голову, словно Хозяин Голоса вдруг ему позволил. Справа, повернувшись спиной, смешавшись в нелепый ком с простынёй и одеялом, была она. Она спала. Она даже не дышала. Она была призраком, непонятной, неживой, только ткань и волосы. Ванёк вспомнил, что не дышал сам, и пытался вдохнуть, но только захлебнулся густым, липким воздухом, который не входил в гортань. Безумно хотелось заплакать, но он не мог, что-то не пускало его.
— Это то, что ты искал? Это она?
И Ванёк смог оглядеть застывшие стены чужой квартиры, чужой, враждебный воздух, не его, случайное, неприятное, непричастное. Что он здесь делает? Как он мог, как мог он сюда попасть? Влезть в чужое. О чём он думал? Всё не так… Всё бесполезно… если только…
— Проснись! — Ванёк хотел прокричать, но вырвался лишь еле слышный сип. Он попробовал громче и громче, но вырывался лишь шёпот: — Проснись, пожалуйста, проснись!… Слышишь?…
Он протянул руку и отдёрнул: её кожа была холодная. Ледяная. Теперь точно всё. И нет спасения. Какое может быть спасение! Если бы она хотя бы пошевилилась, если бы проснулась, повернулась к нему, он бы плакал, а она бы обняла его и гладила рукой по голове, как мама, утешая. Как мама. Может, он искал именно маму? Маму, настоящую, другую, не холодную и жестокую — а настоящую тёплую, его, родную, понимающую. Но находил только отражения той, реальной.
И Голос продолжал что-то ещё:
— Теперь ты видишь, что нужно было слушать только меня. Да, таково положение вещей, но его нужно принять объективно. Того тебя, которого ты себе представлял и хотел выдать другим — нет. Есть только жалкое существо, которое валяется сейчас на осколках своих бесплодных мечтаний — и осколки эти остры…
Теперь Ванёк вспомнил этот голос — он был другим, и голос стал от этого окрашен в другой оттенок. Это был его собственный голос, каким он слышал его, говоря с собой, с чужой, враждебной, рациональной, хладной своей частью. Да, он помнил его, помнил во всех снах…
Я же убил тебя! Ванёк помнил этот сон хорошо, когда он навсегда разделался со своим ночным кошмаром.
— Я стал сильнее, — прошипел Голос.
И теперь это был странный проблеск. Нет, не надежды. Невозможно было пробиться сюда ничему светлому. Но лёгким ветерком вдруг коснулось Ванька то, что соседствовало страху и отчаянию — злоба. И лёд чуть потёк, и сдвинулось время.
Пусть бессильна была ваньковская злоба, но он поднялся на кровати, продравшись сквозь мертвенную пустоту и мутно посмотрел в глаза Князю Тьмы:
— Врёшь!
И уже больше не глядя в потолок, автоматически, боясь потерять то, что даже и удалось нащупать, он одевался, и собирался. И за его спиной кто-то просыпался, но это уже было где-то на другом конце его сознания. Происходили слова и движения, но Ванёк был занят только тщетным, жгучим желанием выжить, не умереть, только существовать, дышать, только бы не упустить, ухватиться за тень злобы, какой-то оттенок человеческого чувства.
И он вырвался, он покинул стены, и оказался на воздухе. Первый день весны был потоплен тишиной густого снегопада. Но здесь было всё же теплее чем там. Ноги подгибались, и Ванёк шёл, сам едва ли понимая куда — к остановке ли, по тропинке ли — прочь, только прочь подальше от холода, от одиночества тех мест, где нет жизни и тепла, нет света и любви — где нет его, Ванька, и без него дома эти одиноки.
Там, сзади, он чувствовал, у окна стояла она и смотрела вслед. Идти было некуда и незачем, вокруг было только слепящее белое марево. И всё же он пошёл вперёд, туда, где за сорок тысяч километров, за бесконечными стенами снегопадов детская мечта ждала его, и там был его дом.
* * *
в одинокие дома —
беспокойный ветер
полетела голова
закружились ветки
над полями —
серый костёр дождя
побеждённые травы
неугосимого дня
не отыщешь нужных слов
всё затёрто, мёртво
плоскогория мозгов
не ложбинки, не пригорка
над полями —
серый костёр дождя
побеждённые травы
неугосимого дня…
в одинокие дома —
беспокойный ветер
полетела голова
закружились ветки
над полями —
серый костёр дождя
побеждённые травы
неугосимого дня
не отыщешь нужных слов
всё затёрто, мёртво
плоскогория мозгов
не ложбинки, не пригорка
над полями —
серый костёр дождя
побеждённые травы
неугосимого дня…
Current music: Чёрный Лукич - В одинокие дома
17:54 19-07-2005
Сладкая ложь
Всё, не осталось никаких надежд: «Балтика-Ноль» оказалась полной гадостью. Вкус-то ещё ничего, а вот отрыжка от неё совсем неприятная. Опьянения не было, только сладость во рту. Пройдя по тропинке любимого сквера у Хоккайдо, он зло отшвырнул банку прочь.
«Надо купить пива» — подумал Ванёк, но не купил.
— Тебе бы «Жигулёвское» безалкагольное, да? — спросила Умная Девушка. Ванёк криво улыбнулся.
— Угу, хорошо бы.
— Ну, так когда ожидать твоего конца света? — кокетливо заподначила девушка оборванный разговор.
— Да я же говорю, не конца света… — снова принялся объяснять Ванёк.
— Неважно, ну катаклизмов, — нетерпеливо перебила она.
— Не знаю точно, но ведь всё же к этому идёт.
— Почему тебе так кажется? — пожала плечами Умная Девушка.
— Кажется? Что значит — кажется? А тебе не кажется?
— Нет, — она опять дёрнула плечом, — А почему должно казаться?
— Ну, солнце, например, небывалая солнечная активность — должно же это что-то означать, как думаешь? — Ванёк почувствовал первую волну любимой своей задорной силы. Девушка, сощурившись, полуобернулась назад, в сторону солнца.
— По-моему оно такое милое, как всегда. Да и раньше было это, ты про периоды солнечной активности слышал?
— Не было! Такая активность впервые за всё время наблюдений.
— А давно его наблюдают? Сколько Земля-то существует — и ничего. И раньше были, просто об этом не известно.
Ванёк не нашёлся, что ответить. Умная Девушка продолжала:
— По-моему всё это… так… выдумки. Ну активность, ну что же, даже если она и нарастает, как ты говоришь, неужели учёные не придумают какой-нибудь щит, если когда-нибудь будет что-то опасное?
— Не верю я в этих учёных… Что они могут… — буркнул Ванёк.
— Ну а как же! А прогресс? Столько всего сейчас изобретают. Ты слышал про нанотехнологии? По-моему, за ними будущее. Сейчас самое лучшее время после всего этого векового застоя.
— Застой этот был только в западной цивилизации! Все эти засраные дворцы, все эти грязные нравы, эта инквизиция, которая только и хотела, чтобы ничто никуда не двигалось… То ли дело — Восток! — прибавил Ванёк с восхищением, — Вот где колыбель культуры!
— Почему — колыбель? — Умная Девушка очаровательно и снисходительно улыбнулась, — Цивилизация и правовой институт зародились в Греции. И, по-моему, что Восток, что Запад — всё одинаково, и там и там есть свои плюсы и минусы. Просто два разных подхода…
— Но Восток духовнее!
— Чем же он духовнее? Тебе просто Восток больше нравится.
— А тебе?
— А мне и то и другое, только по-разному.
Они повернули на боковую тропинку. Где-то вдалеке послышался лай, гуляли собачатники.
— Но культура человека падает, — снова начал Ванёк, — Разве не видишь, кругом вся эта реклама, все эти фильмы, деньги кругом, деньги…
— А что плохого в деньгах? — подняла брови девушка.
— Не в них же счастье! Ты же дожна это понимать, ты всё-таки не… — Ванёк запнулся, — Не…
— Не что? — улыбнулась Умная Девушка.
— Да не знаю. Но ты же видишь, что всё это стремление к деньгам — зло!
— Я понимаю, что не в деньгах счастье, — кивнула она, — Но вот кто-то хочет быть богатым — так пусть будет. Что тут плохого?
— То, что это всеобщее стремление! Кому есть нечего, а кто не знают уже, куда деньги девать — не его, между прочим, деньги, не его! А краденные! И других учат! Вся эта реклама, попса эта, фильмы…
— Да ты уже говорил, я поняла. Но никто тебя не заставляет эту рекламу смотреть. И богатым быть не заставляет.
— Меня-то — нет…
— А кого кто заставляет? Кто мешает пробиться в люди? Не нравится попса — не слушай, я тоже не люблю всю эту фабрику звёзд, ну кроме там одного… Народ всегда хочет… Как это… — она немного скованно махнула руками.
— Хлеба и зрелищ, — мрачно подсказал Ванёк.
— Да, хлеба и зрелищ, — ткнула пальцем в него Умная Девушка.
— Так что же, опять скажешь: всегда так было?
— Ну да, почти всегда, а когда не было? Хочешь — слушай Алсу, хочешь — этого… Мэнсона. И читай себе Достоевского, если Донцову, например, не хочешь.
— Да и Мэнсон — попса такая же.
— Ну не Мэнсона, а там, Гребенщикова, мне кстати он нравится.
— Это тот, который с фабрики, он там тебе нравится? — не удержался от язвительности Ванёк.
— Да нет, ну почему, старый Борис Гребенщиков, — засмеялась она в ответ.
Волна катилась одна за другой, но Ванёк уже чувствовал, куда этот разговор придёт. И мир прекрасен, и солнце светит, и не зацикливайся на своём, какой там конец света. Расширение познания! Просветление! Очистительные методики! Вот уже и официальная наука кое-что признаёт. А там нанороботы, успехи в медицине: вечная молодость, а то и бессмертие в перспективе. Физическое, реальное. И НЛО скоро исследуют, и треугольники твои Бермудские. И вспышки на Солнце, и стихийные бедствия научаться преотвращать. Кто в церковь ходит — того она на путь праведный наставит, кто йогой занимается — ради Бога, занимайтесь, если приспичило. Финансовые пирамды, многоуровневый маркетинг, каждый может стать богатым! Возьми судьбу в свои руки, будь оптимистом!
Пусть миллион человек дадут друг другу по рублю — и каждый станет миллионером…
Ну и что, что в мире много зла! А мы его искореним! Мы будем бдительны перед лицом мирового терроризма! Нет, ну Буш, конечно, немного перегнул, у него, конечно, IQ низковат, ну а как, не Хусейну же нефть отдавать? Не террористам же? А если твой дом взорвут?
Вокруг много грязи?… Так что ты с ней сделаешь? Тут два пути: или становись революционером, либо изменяй что-то в своей голове. Ну, ты, конечно, можешь стать там Чё Геваррой каким-нибудь, и чё, и укокошат тебя на Кубе свои же, как Чё, и чё ты добьёшься?… Ты, как разумный человек, сам же должен понимать, что начать с себя надо, книги же философские читал. А революции — всё кровь невинная, вон её сколько Ленин пролил. И Сталин вон тоже, за идею этого коммунизма тоже полстраны… Изменяй себя, совершенствуйся! Будь хозяином своей судьбы! Улыбнись — и весь мир тебе улыбнётся! Будь счастливым — и все вокруг будут счастливы! Проще, веселее! Забудь комплексы! Ну вот кому ты чем помог? Помоги бабушке для начала. Сделай дело какое-нибудь полезное, тогда тебя полюбят. А ты вместо этого…
Щелчок, конец кассеты. Красивая Девушка исчезает, как оборванная плёнка. И остаётся только Хоккайдо и лай собак. Во рту сладкое послевкусие от квази-пива.
Ванёк медленно бредёт к дому.
«Надо купить пива» — подумал Ванёк, но не купил.
— Тебе бы «Жигулёвское» безалкагольное, да? — спросила Умная Девушка. Ванёк криво улыбнулся.
— Угу, хорошо бы.
— Ну, так когда ожидать твоего конца света? — кокетливо заподначила девушка оборванный разговор.
— Да я же говорю, не конца света… — снова принялся объяснять Ванёк.
— Неважно, ну катаклизмов, — нетерпеливо перебила она.
— Не знаю точно, но ведь всё же к этому идёт.
— Почему тебе так кажется? — пожала плечами Умная Девушка.
— Кажется? Что значит — кажется? А тебе не кажется?
— Нет, — она опять дёрнула плечом, — А почему должно казаться?
— Ну, солнце, например, небывалая солнечная активность — должно же это что-то означать, как думаешь? — Ванёк почувствовал первую волну любимой своей задорной силы. Девушка, сощурившись, полуобернулась назад, в сторону солнца.
— По-моему оно такое милое, как всегда. Да и раньше было это, ты про периоды солнечной активности слышал?
— Не было! Такая активность впервые за всё время наблюдений.
— А давно его наблюдают? Сколько Земля-то существует — и ничего. И раньше были, просто об этом не известно.
Ванёк не нашёлся, что ответить. Умная Девушка продолжала:
— По-моему всё это… так… выдумки. Ну активность, ну что же, даже если она и нарастает, как ты говоришь, неужели учёные не придумают какой-нибудь щит, если когда-нибудь будет что-то опасное?
— Не верю я в этих учёных… Что они могут… — буркнул Ванёк.
— Ну а как же! А прогресс? Столько всего сейчас изобретают. Ты слышал про нанотехнологии? По-моему, за ними будущее. Сейчас самое лучшее время после всего этого векового застоя.
— Застой этот был только в западной цивилизации! Все эти засраные дворцы, все эти грязные нравы, эта инквизиция, которая только и хотела, чтобы ничто никуда не двигалось… То ли дело — Восток! — прибавил Ванёк с восхищением, — Вот где колыбель культуры!
— Почему — колыбель? — Умная Девушка очаровательно и снисходительно улыбнулась, — Цивилизация и правовой институт зародились в Греции. И, по-моему, что Восток, что Запад — всё одинаково, и там и там есть свои плюсы и минусы. Просто два разных подхода…
— Но Восток духовнее!
— Чем же он духовнее? Тебе просто Восток больше нравится.
— А тебе?
— А мне и то и другое, только по-разному.
Они повернули на боковую тропинку. Где-то вдалеке послышался лай, гуляли собачатники.
— Но культура человека падает, — снова начал Ванёк, — Разве не видишь, кругом вся эта реклама, все эти фильмы, деньги кругом, деньги…
— А что плохого в деньгах? — подняла брови девушка.
— Не в них же счастье! Ты же дожна это понимать, ты всё-таки не… — Ванёк запнулся, — Не…
— Не что? — улыбнулась Умная Девушка.
— Да не знаю. Но ты же видишь, что всё это стремление к деньгам — зло!
— Я понимаю, что не в деньгах счастье, — кивнула она, — Но вот кто-то хочет быть богатым — так пусть будет. Что тут плохого?
— То, что это всеобщее стремление! Кому есть нечего, а кто не знают уже, куда деньги девать — не его, между прочим, деньги, не его! А краденные! И других учат! Вся эта реклама, попса эта, фильмы…
— Да ты уже говорил, я поняла. Но никто тебя не заставляет эту рекламу смотреть. И богатым быть не заставляет.
— Меня-то — нет…
— А кого кто заставляет? Кто мешает пробиться в люди? Не нравится попса — не слушай, я тоже не люблю всю эту фабрику звёзд, ну кроме там одного… Народ всегда хочет… Как это… — она немного скованно махнула руками.
— Хлеба и зрелищ, — мрачно подсказал Ванёк.
— Да, хлеба и зрелищ, — ткнула пальцем в него Умная Девушка.
— Так что же, опять скажешь: всегда так было?
— Ну да, почти всегда, а когда не было? Хочешь — слушай Алсу, хочешь — этого… Мэнсона. И читай себе Достоевского, если Донцову, например, не хочешь.
— Да и Мэнсон — попса такая же.
— Ну не Мэнсона, а там, Гребенщикова, мне кстати он нравится.
— Это тот, который с фабрики, он там тебе нравится? — не удержался от язвительности Ванёк.
— Да нет, ну почему, старый Борис Гребенщиков, — засмеялась она в ответ.
Волна катилась одна за другой, но Ванёк уже чувствовал, куда этот разговор придёт. И мир прекрасен, и солнце светит, и не зацикливайся на своём, какой там конец света. Расширение познания! Просветление! Очистительные методики! Вот уже и официальная наука кое-что признаёт. А там нанороботы, успехи в медицине: вечная молодость, а то и бессмертие в перспективе. Физическое, реальное. И НЛО скоро исследуют, и треугольники твои Бермудские. И вспышки на Солнце, и стихийные бедствия научаться преотвращать. Кто в церковь ходит — того она на путь праведный наставит, кто йогой занимается — ради Бога, занимайтесь, если приспичило. Финансовые пирамды, многоуровневый маркетинг, каждый может стать богатым! Возьми судьбу в свои руки, будь оптимистом!
Пусть миллион человек дадут друг другу по рублю — и каждый станет миллионером…
Ну и что, что в мире много зла! А мы его искореним! Мы будем бдительны перед лицом мирового терроризма! Нет, ну Буш, конечно, немного перегнул, у него, конечно, IQ низковат, ну а как, не Хусейну же нефть отдавать? Не террористам же? А если твой дом взорвут?
Вокруг много грязи?… Так что ты с ней сделаешь? Тут два пути: или становись революционером, либо изменяй что-то в своей голове. Ну, ты, конечно, можешь стать там Чё Геваррой каким-нибудь, и чё, и укокошат тебя на Кубе свои же, как Чё, и чё ты добьёшься?… Ты, как разумный человек, сам же должен понимать, что начать с себя надо, книги же философские читал. А революции — всё кровь невинная, вон её сколько Ленин пролил. И Сталин вон тоже, за идею этого коммунизма тоже полстраны… Изменяй себя, совершенствуйся! Будь хозяином своей судьбы! Улыбнись — и весь мир тебе улыбнётся! Будь счастливым — и все вокруг будут счастливы! Проще, веселее! Забудь комплексы! Ну вот кому ты чем помог? Помоги бабушке для начала. Сделай дело какое-нибудь полезное, тогда тебя полюбят. А ты вместо этого…
Щелчок, конец кассеты. Красивая Девушка исчезает, как оборванная плёнка. И остаётся только Хоккайдо и лай собак. Во рту сладкое послевкусие от квази-пива.
Ванёк медленно бредёт к дому.
Группы: [ Оранжевая Книга ]
Комментарии [5]
20:22 25-06-2005
Соль Земли
Признаки Утра, мглистая рань. Затишье. Густые тучи в чуть светлеющем после Ночи небе. Ветер дует, и развевает балахоны, и он почти единственный звук, и нет ни слов, ни шёпота. Молчаливые фигуры деловито и не спеша собираются в путь. Обстоятельно затягивают пояса, забрасывают через плечо походные котомки. Ни лиц, ни отличий не видно, только силуэты, на всём поле, что в сумеречном свете выглядит иначе, и пышная трава — серая, и гнётся под порывами ветра. А дальше — суровые, но родные очертания Леса. И вытянутой стрелой, хозяином-исполином Стеклянная Башня.
Странники.
Я оглушён пребыванием здесь, всё происходящее кажется совершенно необъективным, сонным, желатиновым — но вот, оно реально. Принят! В глазах всё ещё стоит вспышка, яркое воспоминание о моём Боге, который есть, который не оставил, который пришёл тогда, когда уже ни на что не осталось надежд. И таков он, таков, мой любимый Герой. И снова зажёг, он зажёг мою кровь. Я чувствую, я почти вижу горячее свечение.
Собираемся, готовимся в путь. Эйфория, сладкое чувство причастности, я, кажется, потерял веру, потерял надежду быть здесь. Подумать только, я мог сомневаться! Грош же мне цена такому, неспособному даже верить — но был прощён. А ведь так просто верить голосу тишины, который всегда. Так просто, так невозможно…
«И если соль потеряет свой вкус — то что сделает её солёной?» Кто они, кто мы? Горечь Земли, соль Земли, слёзы Земли.
Через какое неразумение надо пройти, чтобы оказаться здесь!
Гаснут точки костров. Мы, кругом мы, я не думал, что нас может быть так много, я, пожалуй, приписывал себе такую несуществующую уникальность… Зачем же гордился тем, что я такой? Ведь этим нельзя гордиться, в том и суть, что нельзя, иначе станешь как тот, Падший.
Доброе их присутствие, молчаливое ободрение, безмолвное понимание и согласие. Мы разные, такие разные, и, я думаю, именно поэтому молчим. Но достигшие одного понимания, именно поэтому мы идём, разбредаемся, каждый один, но всё же не одинок. Вместе разбредаемся, хором, миром. По миру растекаемся, как в сказаниях, как в аллегориях.
Мы ждём Рассвета. И он настанет. «Не будет катастрофы, — говорил Архитектор, — больше той, что уже случилась». И она не только случилась, но и случается, прямо сейчас, у всех на глазах, она идёт, и Легион этот ужастен. Кто видит?
«Вам не победить», — сказал Архитектор.
«Помните, вам не победить», — повторил он, — «Но самим быть побеждёнными, оплёванными, растоптанными. Неминуемо убитыми, убит будет каждый, не сохранить своё бренное никому.» Да, именно так. Но идём не для того, чтобы победить.
«Вы — соль Земли». Soul Земли, Sole Земли…
Только не дрогнуть, только построить фундамент среди гниения, только остаться в сути: солью быть, горечью быть, слезой.
Ничего не изменить, не улучшить этот дряхлый дом, не перековать, не сохранить. Не переубедить жильцов его, они — другие, они в другом измерении, в диких, неписанных, головоломных клетках своего непонимания. Другую птицу ищем мы, птицу редкую, птицу яркую, птицу с пылающим пером. Мы идём к тем, кто уже из нас, но не знает об этом. Мы идём принести радостную весть.
Мы идём изменить себя, построить себя, основать себя заново. И, когда придёт Утро, всё исчезнет, растворится в лучах, но наши домики улыбнутся взошедшему Солнцу.
Следы наши до краёв Земли, приюты наши в непонятных местах, слова наши для редких ушей. Яркий Архитектор стоит у дверей Башни и машет нам рукой. Называли по-разному, бранились по пустякам ласково, верили одинаково. Строители его, верные его.
И поле пустеет. Последний раз невзначай касаемся друг друга боками, молча благославляем, незаметно киваем — и расходимся по всем сторонам света, и ветер над нами, и тучи с нами, полные Надеждой, томные Утром, отягощённые Дождём.
* * *
зову огней
скажешь ли «да»
круг всё тесней
будь навсегда
не меркнет звезда
сколько б не ждать
и время замрёт
будь навсегда
неведомый путь
непознана даль
ну да и пусть
будь навсегда
ветрам времён
имя отдай
будь навсегда
будь навсегда!…
Current music: Пикник - Будь навсегда
Странники.
Я оглушён пребыванием здесь, всё происходящее кажется совершенно необъективным, сонным, желатиновым — но вот, оно реально. Принят! В глазах всё ещё стоит вспышка, яркое воспоминание о моём Боге, который есть, который не оставил, который пришёл тогда, когда уже ни на что не осталось надежд. И таков он, таков, мой любимый Герой. И снова зажёг, он зажёг мою кровь. Я чувствую, я почти вижу горячее свечение.
Собираемся, готовимся в путь. Эйфория, сладкое чувство причастности, я, кажется, потерял веру, потерял надежду быть здесь. Подумать только, я мог сомневаться! Грош же мне цена такому, неспособному даже верить — но был прощён. А ведь так просто верить голосу тишины, который всегда. Так просто, так невозможно…
«И если соль потеряет свой вкус — то что сделает её солёной?» Кто они, кто мы? Горечь Земли, соль Земли, слёзы Земли.
Через какое неразумение надо пройти, чтобы оказаться здесь!
Гаснут точки костров. Мы, кругом мы, я не думал, что нас может быть так много, я, пожалуй, приписывал себе такую несуществующую уникальность… Зачем же гордился тем, что я такой? Ведь этим нельзя гордиться, в том и суть, что нельзя, иначе станешь как тот, Падший.
Доброе их присутствие, молчаливое ободрение, безмолвное понимание и согласие. Мы разные, такие разные, и, я думаю, именно поэтому молчим. Но достигшие одного понимания, именно поэтому мы идём, разбредаемся, каждый один, но всё же не одинок. Вместе разбредаемся, хором, миром. По миру растекаемся, как в сказаниях, как в аллегориях.
Мы ждём Рассвета. И он настанет. «Не будет катастрофы, — говорил Архитектор, — больше той, что уже случилась». И она не только случилась, но и случается, прямо сейчас, у всех на глазах, она идёт, и Легион этот ужастен. Кто видит?
«Вам не победить», — сказал Архитектор.
«Помните, вам не победить», — повторил он, — «Но самим быть побеждёнными, оплёванными, растоптанными. Неминуемо убитыми, убит будет каждый, не сохранить своё бренное никому.» Да, именно так. Но идём не для того, чтобы победить.
«Вы — соль Земли». Soul Земли, Sole Земли…
Только не дрогнуть, только построить фундамент среди гниения, только остаться в сути: солью быть, горечью быть, слезой.
Ничего не изменить, не улучшить этот дряхлый дом, не перековать, не сохранить. Не переубедить жильцов его, они — другие, они в другом измерении, в диких, неписанных, головоломных клетках своего непонимания. Другую птицу ищем мы, птицу редкую, птицу яркую, птицу с пылающим пером. Мы идём к тем, кто уже из нас, но не знает об этом. Мы идём принести радостную весть.
Мы идём изменить себя, построить себя, основать себя заново. И, когда придёт Утро, всё исчезнет, растворится в лучах, но наши домики улыбнутся взошедшему Солнцу.
Следы наши до краёв Земли, приюты наши в непонятных местах, слова наши для редких ушей. Яркий Архитектор стоит у дверей Башни и машет нам рукой. Называли по-разному, бранились по пустякам ласково, верили одинаково. Строители его, верные его.
И поле пустеет. Последний раз невзначай касаемся друг друга боками, молча благославляем, незаметно киваем — и расходимся по всем сторонам света, и ветер над нами, и тучи с нами, полные Надеждой, томные Утром, отягощённые Дождём.
* * *
зову огней
скажешь ли «да»
круг всё тесней
будь навсегда
не меркнет звезда
сколько б не ждать
и время замрёт
будь навсегда
неведомый путь
непознана даль
ну да и пусть
будь навсегда
ветрам времён
имя отдай
будь навсегда
будь навсегда!…
Current music: Пикник - Будь навсегда
Группы: [ Оранжевая Книга ]
Комментарии [4]
14:31 14-08-2004
Undead
В этот светлый день Ванёк спустился, даже вернее, скатился с горки и оказался перед самой Новосибирской ГЭС. Чайки облепили прибрежные камни, иные же носились под голубым, почти безоблачным небом. Солнце перекатилось за полдень и начало уже утомляться. Рыбаки... Да, рыбаки стояли поодиночке, реже кучкой вдоль берега с длинными-предлинными лесками. Кроме них, здесь не было никого, это было целиком их царство. Наверняка по эту сторону ГЭС нельзя было купаться.
Снова он побрёл вдоль берега, где был так безмерно счастлив. Наверное, если бы песок сохранил прошлогодние отпечатки, то он шагал бы след-в-след. И только плеск волн, только крики чаек... Было нежарко, просто тепло. Даже ветерок немного. Пахло рыбой. Обычным движением Ванёк потёр нос.
Ванёк был один, один, совсем один. Но плохо было не это, а то, что ему от этого не было плохо. Ему было хорошо. Он настолько привык к одиночеству, как, наверное, и к поломанному зубу мудрости, далеко слева, на верхней десне. Сначала всё лизал его языком, а потом свыкся. Ему не было больно. Он начал бояться, что он становится одним из этих... которые не чувствуют боли... Он даже сглотнул.
Его мучала странная двойственность, или как он любил это называть, дихотомия: с одной стороны, он не хотел себя отягощять случайными подругами, этим он был слишком сыт, чтобы понимать, что это — странная и общепринятая глупость, если не сказать большего. От одиночества, от безысходности, из страха быть ненужным вступают люди в беспорядочные отношения, в браки — из страха потерять. Потерять то, что не нужно, что и не находили, что им не принадлежит. Но у Ванька исчез страх быть ненужным, как и боязнь быть одному. Нет ничего страшного быть потерянным для людей и бесполезным для них — куда как страшнее, и, на самом деле, настоящая причина страхов — потерять себя, стать ненужным самому себе, своему человеческому духу, божеской своей совести. И всё же, у Ваньковской дихотомии была и другая сторона: одиночество и осознание бессилия, бесполезности, тщетности существования для него слились воедино — в мысли, что пока он — только половинка, оторванная частичка, и покуда так — его жизнь действительно лишена своего полного смысла.
Блаженны те, думал Ванёк, кто соединился снова. Блаженны нашедшие, снова целые, они могут жить по-настоящему.
Блаженны те, кто не ищет половинку. Блаженны неведающие, что такое настоящая любовь, что за брак такой, на небесах заключаемый. Они могут жить и так, жить — и всё тут... Или и их зовёт пока неведомая им сила, которую они пытаются унять, метаясь из стороны в сторону, приобретая деньги и власть и не могущие на том успокоиться?..
Блаженны ищущие, которые не остановятся ни перед чем, ничем не смутятся, не падут духом в отчаянии, не обманутся видимостью... Блаженны, которые уже не могут иначе, не могут поодиночке... Ах, Ванёк мог, мог быть один сколько угодно! Но бытиё это похоже на чтение книги перед сном, когда уже слипаются глаза, и готов отдаться успокаивающей неге небытия сновидений, но сюжет читаемого всё же держит, и ты не можешь ни бодро вникнуть, ни спокойно спать.
И ещё подумал Ванёк, что блаженнее всех те, кто никогда не найдёт на земле свою половинку, чьи сужденные — на небесах, по ту сторону лазурной ткани. Встречаясь ночью, во сне, как счастливы они днём! Как светлы глаза этих людей, которые одиноки лишь внешне, всю жизнь, но всегда вдвоём в душе. Они живут две жизни, две жизни в одной, в одной — наполненной смыслом. Тихие, маленькие, добрые люди.
Ванёк был бы рад, если бы рыбак, или если бы чайка даже, прокричали бы ему, что он — один из тех, чьих половинок нет на земле. Хоть бы кто-нибудь оживил его, пробудил из летаргического полусония. Вздохнул бы Ванёк полной грудью, поднялся и начал жить. А пока он... Да, он — undead, не мёртвый, но и не живой, бродячая плоть, мятежный дух, что ищет, ищет... И нет ему покоя.
эти серые лица не внушают доверия
теперь я знаю, кому поёт певица Валерия
я готова на многое, я готова даже исправиться
упакуйте, отдайте меня стюардессам-красавицам
здравствуй небо, здравствуй море, облака...
Current music: Zемфира - Небомореоблака
Снова он побрёл вдоль берега, где был так безмерно счастлив. Наверное, если бы песок сохранил прошлогодние отпечатки, то он шагал бы след-в-след. И только плеск волн, только крики чаек... Было нежарко, просто тепло. Даже ветерок немного. Пахло рыбой. Обычным движением Ванёк потёр нос.
Ванёк был один, один, совсем один. Но плохо было не это, а то, что ему от этого не было плохо. Ему было хорошо. Он настолько привык к одиночеству, как, наверное, и к поломанному зубу мудрости, далеко слева, на верхней десне. Сначала всё лизал его языком, а потом свыкся. Ему не было больно. Он начал бояться, что он становится одним из этих... которые не чувствуют боли... Он даже сглотнул.
Его мучала странная двойственность, или как он любил это называть, дихотомия: с одной стороны, он не хотел себя отягощять случайными подругами, этим он был слишком сыт, чтобы понимать, что это — странная и общепринятая глупость, если не сказать большего. От одиночества, от безысходности, из страха быть ненужным вступают люди в беспорядочные отношения, в браки — из страха потерять. Потерять то, что не нужно, что и не находили, что им не принадлежит. Но у Ванька исчез страх быть ненужным, как и боязнь быть одному. Нет ничего страшного быть потерянным для людей и бесполезным для них — куда как страшнее, и, на самом деле, настоящая причина страхов — потерять себя, стать ненужным самому себе, своему человеческому духу, божеской своей совести. И всё же, у Ваньковской дихотомии была и другая сторона: одиночество и осознание бессилия, бесполезности, тщетности существования для него слились воедино — в мысли, что пока он — только половинка, оторванная частичка, и покуда так — его жизнь действительно лишена своего полного смысла.
Блаженны те, думал Ванёк, кто соединился снова. Блаженны нашедшие, снова целые, они могут жить по-настоящему.
Блаженны те, кто не ищет половинку. Блаженны неведающие, что такое настоящая любовь, что за брак такой, на небесах заключаемый. Они могут жить и так, жить — и всё тут... Или и их зовёт пока неведомая им сила, которую они пытаются унять, метаясь из стороны в сторону, приобретая деньги и власть и не могущие на том успокоиться?..
Блаженны ищущие, которые не остановятся ни перед чем, ничем не смутятся, не падут духом в отчаянии, не обманутся видимостью... Блаженны, которые уже не могут иначе, не могут поодиночке... Ах, Ванёк мог, мог быть один сколько угодно! Но бытиё это похоже на чтение книги перед сном, когда уже слипаются глаза, и готов отдаться успокаивающей неге небытия сновидений, но сюжет читаемого всё же держит, и ты не можешь ни бодро вникнуть, ни спокойно спать.
И ещё подумал Ванёк, что блаженнее всех те, кто никогда не найдёт на земле свою половинку, чьи сужденные — на небесах, по ту сторону лазурной ткани. Встречаясь ночью, во сне, как счастливы они днём! Как светлы глаза этих людей, которые одиноки лишь внешне, всю жизнь, но всегда вдвоём в душе. Они живут две жизни, две жизни в одной, в одной — наполненной смыслом. Тихие, маленькие, добрые люди.
Ванёк был бы рад, если бы рыбак, или если бы чайка даже, прокричали бы ему, что он — один из тех, чьих половинок нет на земле. Хоть бы кто-нибудь оживил его, пробудил из летаргического полусония. Вздохнул бы Ванёк полной грудью, поднялся и начал жить. А пока он... Да, он — undead, не мёртвый, но и не живой, бродячая плоть, мятежный дух, что ищет, ищет... И нет ему покоя.
эти серые лица не внушают доверия
теперь я знаю, кому поёт певица Валерия
я готова на многое, я готова даже исправиться
упакуйте, отдайте меня стюардессам-красавицам
здравствуй небо, здравствуй море, облака...
Current music: Zемфира - Небомореоблака
Группы: [ Оранжевая Книга ]
Комментарии [2]
19:33 27-07-2004
Ванёк и розовая мечта
Как вы помните, Ванёк не любил тёплое пиво. А любил он пиво холодное, производства местного, розлива свежего, цены маленькой, марки редкостной — "Жигулёвское" называется. А пятёрку балтику перестал любить, потому что оно было производства далёкого, розлива кислого, цены немеряной и разбодяженное бессовестно. Возможно, Жигулёвское тоже разводилось, даже скорее всего, потому что как это можно пиво-то совсем не бодяжить? Конечно, нельзя. За это он не очень приветствовал разливное, которое было в цене меньшей разницы, чем в проценте содержания воды по отношению к оригиналу; и покупал он пиво в бутылках.
Это, как обычно, присказка. А на самом деле, Ваньку нельзя было пиво больше. И меньше тоже, совсем нисколько нельзя. Потому что другой он стал. Снаружи — тот же, а физиология другая. Поэтому после работы он честно стоял и ждал трамвая, рядом с киоском, искоса наблюдая за камрадами, подходившими за различного рода прохладительными напитками. Ваньку тоже хотелось прохладительного напитка, причём вполне известного уже читателю рода. Пластмассовая бутафория под ничего не значащими названиями типа "Соса-Сола" или "Сприте" совершенно не вызывала у него слюноотделения. Потому что физиология такая стала.
Но трамвая долго не было...
Конечно, потом он подошёл, когда уже не нужен был, и Ванёк, сжимая в руках запотевшую бутылку своего любимого запретного прохладительного напитка, решил направиться куда глаза глядят.
Туда он и направился.
А когда пришёл, оказалось, что бутылки у него уже нет и бродит он по дорожкам в сквере возле Хоккайдо. Вообще-то, в понимании Ванька, сквер — это где деревья растут, но в понимании русско-японской дружбы, родившей Хоккайдо, сквер — это открытое место, где много травы. А деревьев не много, хотя и есть. В целом, Ванёк любил японцев. А в частности — не очень любил, особенно тех, кто соблюдал только внешнюю часть строгого японского духа, духа бусидо, не чуя вкуса истинной, эзотерической части. Ванёк часто хотел стать самураем, но у него никак не получалось.
О содеянном он не сожалел. Это он потом пожалеет, вечером, когда последствия начнутся. А сейчас... Сейчас ему было так хорошо, как только может быть человеку, заключённому в клетку из хилой плоти. Поллитра пива — теперь наркотик, наркотик сильный. Умножающий эйфорию до предельных высот. Поэтому и нельзя было.
И, выйдя из сквера Хоккайдо, он побрёл в сторону нагромождений Шевченковского жилмассива. О, розовая мечта! Редко он бывал здесь: чтобы не спугнуть, чтобы не опопсить. Дома из розового кирпича таяли под присмотром заходящего солнца, большие и маленькие, наваленные друг на друга непредсказуемой крепостью, соединённые лестницами и дорожками, перемежающиеся уютными тихими двориками... Спальный район, в самом центре, во двориках почти никого не было, над скамеечками и детскими площадками царило вечернее умиротворение. Он подумал, что в этом месте должны жить самые прекрасные люди. Ведь здесь так хорошо!
Ванёк очень-очень хотел жить здесь. И тем больше он сокрушался, зная, что его родителям предлагали здесь квартиру, но выбор был сделан в пользу Академгородка. Он, конечно, не мог с уверенностью знать, как бы оно было, если бы; но жить здесь — стало его розовой мечтой, такой же, как ровные и аккуратные кирпичи этих зданий.
Ванёк прекрасно знал, что он никогда не будет жить красиво. Никогда не будет получать много денег, не купит машину, не будет ездить за границу. Потому что он знает мало способов зарабатывать много, живя в ладу со своей совестью. Но даже если бы и был такой способ — деньги развращают, охлаждают сердца лучших людей, и он бы не хотел попасть в такое искушение. Жить в красивой квартире — вон в той, например, жениться на красивой девушке, воспитать ухоженных розовощёких детей, красиво одеть их и отправить в элитную школу, доказывая им с детства, что они — избранные на этой планете, научив их подниматься по чужим головам, самим по себе, во славе и успехе, втаптывая в грязь, сравнивая с землёй серых ничтожеств. Встречать по одёжке, провожать по кошельку.
Нет, Ванёк не хотел этого. Быть может, ещё свежо было желание, необъяснимая тоска пить кока-колу по утрам и фруктовое молоко — по вечерам, смотреть DVD по шести колонкам на огромном экране, спать на широкой кровати с цветными простынями, сидеть за самым мощным компьютером и читать цветные журналы, выбирая по каталогам последние достижения технической мысли, завалив розовой мечтой дом до краёв. Он ещё помнил прикосновения босой ступни к мягкому ковровому покрытию. Ещё помнил удушающую красоту летнего ресторана. Но нет... Он знал, что это всё закончится так же, как и сегодняшнее пиво, и поздний вечер принесёт расплату за искуственную эйфорию золотого напитка.
Очень хотелось продолжить по второй, но там, где нет ни имён, ни званий, ни вещей, и одно имя у каждого — Человек, там были новые друзья, и он не мог, не мог огорчать их... больше. Его дорога — туда, и это очень длинная дорога, босиком, по острому щебню.
Низко опустив голову, словно двоешник, исправивший тройку на пятёрку, словно нерадивый работник, подставивший халтурой своих сослуживцев, словно гордый Икар, подпаливший крылья, Ванёк исчезал с Шевченковского массива, двигался вдоль Кирова, изучал неровности асфальта под ногами. В ушах звучал шум машин и далёкая музыка.
А позади, охваченная пламенем заката, тлела его розовая мечта.
Это, как обычно, присказка. А на самом деле, Ваньку нельзя было пиво больше. И меньше тоже, совсем нисколько нельзя. Потому что другой он стал. Снаружи — тот же, а физиология другая. Поэтому после работы он честно стоял и ждал трамвая, рядом с киоском, искоса наблюдая за камрадами, подходившими за различного рода прохладительными напитками. Ваньку тоже хотелось прохладительного напитка, причём вполне известного уже читателю рода. Пластмассовая бутафория под ничего не значащими названиями типа "Соса-Сола" или "Сприте" совершенно не вызывала у него слюноотделения. Потому что физиология такая стала.
Но трамвая долго не было...
Конечно, потом он подошёл, когда уже не нужен был, и Ванёк, сжимая в руках запотевшую бутылку своего любимого запретного прохладительного напитка, решил направиться куда глаза глядят.
Туда он и направился.
А когда пришёл, оказалось, что бутылки у него уже нет и бродит он по дорожкам в сквере возле Хоккайдо. Вообще-то, в понимании Ванька, сквер — это где деревья растут, но в понимании русско-японской дружбы, родившей Хоккайдо, сквер — это открытое место, где много травы. А деревьев не много, хотя и есть. В целом, Ванёк любил японцев. А в частности — не очень любил, особенно тех, кто соблюдал только внешнюю часть строгого японского духа, духа бусидо, не чуя вкуса истинной, эзотерической части. Ванёк часто хотел стать самураем, но у него никак не получалось.
О содеянном он не сожалел. Это он потом пожалеет, вечером, когда последствия начнутся. А сейчас... Сейчас ему было так хорошо, как только может быть человеку, заключённому в клетку из хилой плоти. Поллитра пива — теперь наркотик, наркотик сильный. Умножающий эйфорию до предельных высот. Поэтому и нельзя было.
И, выйдя из сквера Хоккайдо, он побрёл в сторону нагромождений Шевченковского жилмассива. О, розовая мечта! Редко он бывал здесь: чтобы не спугнуть, чтобы не опопсить. Дома из розового кирпича таяли под присмотром заходящего солнца, большие и маленькие, наваленные друг на друга непредсказуемой крепостью, соединённые лестницами и дорожками, перемежающиеся уютными тихими двориками... Спальный район, в самом центре, во двориках почти никого не было, над скамеечками и детскими площадками царило вечернее умиротворение. Он подумал, что в этом месте должны жить самые прекрасные люди. Ведь здесь так хорошо!
Ванёк очень-очень хотел жить здесь. И тем больше он сокрушался, зная, что его родителям предлагали здесь квартиру, но выбор был сделан в пользу Академгородка. Он, конечно, не мог с уверенностью знать, как бы оно было, если бы; но жить здесь — стало его розовой мечтой, такой же, как ровные и аккуратные кирпичи этих зданий.
Ванёк прекрасно знал, что он никогда не будет жить красиво. Никогда не будет получать много денег, не купит машину, не будет ездить за границу. Потому что он знает мало способов зарабатывать много, живя в ладу со своей совестью. Но даже если бы и был такой способ — деньги развращают, охлаждают сердца лучших людей, и он бы не хотел попасть в такое искушение. Жить в красивой квартире — вон в той, например, жениться на красивой девушке, воспитать ухоженных розовощёких детей, красиво одеть их и отправить в элитную школу, доказывая им с детства, что они — избранные на этой планете, научив их подниматься по чужим головам, самим по себе, во славе и успехе, втаптывая в грязь, сравнивая с землёй серых ничтожеств. Встречать по одёжке, провожать по кошельку.
Нет, Ванёк не хотел этого. Быть может, ещё свежо было желание, необъяснимая тоска пить кока-колу по утрам и фруктовое молоко — по вечерам, смотреть DVD по шести колонкам на огромном экране, спать на широкой кровати с цветными простынями, сидеть за самым мощным компьютером и читать цветные журналы, выбирая по каталогам последние достижения технической мысли, завалив розовой мечтой дом до краёв. Он ещё помнил прикосновения босой ступни к мягкому ковровому покрытию. Ещё помнил удушающую красоту летнего ресторана. Но нет... Он знал, что это всё закончится так же, как и сегодняшнее пиво, и поздний вечер принесёт расплату за искуственную эйфорию золотого напитка.
Очень хотелось продолжить по второй, но там, где нет ни имён, ни званий, ни вещей, и одно имя у каждого — Человек, там были новые друзья, и он не мог, не мог огорчать их... больше. Его дорога — туда, и это очень длинная дорога, босиком, по острому щебню.
Низко опустив голову, словно двоешник, исправивший тройку на пятёрку, словно нерадивый работник, подставивший халтурой своих сослуживцев, словно гордый Икар, подпаливший крылья, Ванёк исчезал с Шевченковского массива, двигался вдоль Кирова, изучал неровности асфальта под ногами. В ушах звучал шум машин и далёкая музыка.
А позади, охваченная пламенем заката, тлела его розовая мечта.
Группы: [ Оранжевая Книга ]
Комментарии [4]
23:21 01-09-2003
Эвтаназия
Всё белое.
Ты сидишь за столом, уткнувшись правой щекой в скатерть. Всё белое, давай добавим немного ярко-фиолетового, почти сиреневого. Запах сирени? Нет. Запах яблок, яблочный запах, яблочный вкус на губах. Всё белое.
Августовский ветер слегка колышит уголок чистой скатерти. Почти чистой. Пустой стакан, в котором был сок, сохранил только запах – и оставил маленький мокрый кружочек на поверхности стола. Звук "сссс", да, именно такой, далекий и ненавязчивый, но именно тот звук. Пожалуй, добавим ещё жёлтый оттенок, совсем немного, а белый пусть доминирует. Ведь сегодня Яблочный День.
Ты растешь назад. Ты долго ждал меня; но поверь, я ждал этого момента дольше. Теперь мы здесь. Где-то вдалеке, за белизной, холст неба смыкается с землёй; там огромный луг с короткой травой, там белые дома и безлюдные узкие дорожки, там есть другие цвета: зелёный, голубой... Я отдаю тебе всё.
...Я отдаю тебе всё. Всё, что принадлежит тебе; не держу больше. Ты грустил – я горевал, ты плакал – я убивался, ты звал меня, но я был лишь размытым пятном, иллюзорной абстракцией, я тянул к тебе руки – но ты, не веря, отворачивался.
Так верь в меня, потому что я верю в тебя, мой ребенок. Ты растёшь назад, становишься всё младше. Пальцы правой руки прикоснулись к донышку стакана, фиолетовая пчела присела на краешек и попраивла усики; твоя левая рука соскользнула со стола и упала на колено. Ты отбросил всё чужое, и готов остаться с тем, что действительно твоё. Я слышу, как бьётся твоё сердце, всё медленнее, но настойчивее. Остановилось; ты пересёк границу.
Когда-то ты был скован страхом, но ты победил его, помнишь? Как Люк Скайвокер, волшебным мечом с виртуальным лезвием. Ты победитель перед собой, а уж передо мной тем более; этот мир что-нибудь да значит, да? Видишь, как много он значит? Подвиг второй: и ты уже видишь свои настоящие руки. Значит, ты приближаешься ко мне, сын: ты готов сказать что-то миру, а мир готов тебя приютить.
Слово смерть для тебя всегда равнялось слову жизнь; и вместе они равнялись всему, что у тебя есть: белым зданиям, ровным дорожкам, свистящему звуку, белой скатерти и блюдцу с яблоками. А это значит, что смерть – просто выдумка того, кого ты победил, и чьё имя никогда больше не прозвучит в твоём доме. Есть только жизнь.
Оживи теперь и восстань!
Пчелка вспорхнула с ободка стакана и тишина дрогнула. Серце забилось, отсчитывая Сердечные Секунды, единственное, чем меряется эта жизнь: то становясь быстрее, то, в самые ясные минуты, замедляясь до тишины. Ты поднимаешь голову, и в первый раз смотришь на меня этими глазами. Может быть, скоро ты научишься улыбаться. Да, это мы; в самом деле мы, сынок. Ты хорошо видишь в ярком свете.
Всё – ярко-белое с сиреневым и немного желтоватое.
Ты радуешься – я ликую, ты улыбаешься – я торжествую, ты делаешь шаг – мы побеждаем.
Позови меня, когда отдохнёшь и наберёшься сил: займёмся архитектурой; а пока – возьми лист бумаги и медленно обведи контур ладони фломастером. Я сделаю то же, а это значит, что мы пожимаем друг другу руки.
Как у вас говорят, когда уходят? Да, я неторопливо сваливаю, и только белый свет и тихий свистящий звук – моё имя – напоминает о том, что, как и прежде, мы снова вместе, моё возлюбленное чадо и мой верный друг.
Лёгкий аромат яблок.
Всё белое.
Current music: Dolphin - Утро
Ты сидишь за столом, уткнувшись правой щекой в скатерть. Всё белое, давай добавим немного ярко-фиолетового, почти сиреневого. Запах сирени? Нет. Запах яблок, яблочный запах, яблочный вкус на губах. Всё белое.
Августовский ветер слегка колышит уголок чистой скатерти. Почти чистой. Пустой стакан, в котором был сок, сохранил только запах – и оставил маленький мокрый кружочек на поверхности стола. Звук "сссс", да, именно такой, далекий и ненавязчивый, но именно тот звук. Пожалуй, добавим ещё жёлтый оттенок, совсем немного, а белый пусть доминирует. Ведь сегодня Яблочный День.
Ты растешь назад. Ты долго ждал меня; но поверь, я ждал этого момента дольше. Теперь мы здесь. Где-то вдалеке, за белизной, холст неба смыкается с землёй; там огромный луг с короткой травой, там белые дома и безлюдные узкие дорожки, там есть другие цвета: зелёный, голубой... Я отдаю тебе всё.
...Я отдаю тебе всё. Всё, что принадлежит тебе; не держу больше. Ты грустил – я горевал, ты плакал – я убивался, ты звал меня, но я был лишь размытым пятном, иллюзорной абстракцией, я тянул к тебе руки – но ты, не веря, отворачивался.
Так верь в меня, потому что я верю в тебя, мой ребенок. Ты растёшь назад, становишься всё младше. Пальцы правой руки прикоснулись к донышку стакана, фиолетовая пчела присела на краешек и попраивла усики; твоя левая рука соскользнула со стола и упала на колено. Ты отбросил всё чужое, и готов остаться с тем, что действительно твоё. Я слышу, как бьётся твоё сердце, всё медленнее, но настойчивее. Остановилось; ты пересёк границу.
Когда-то ты был скован страхом, но ты победил его, помнишь? Как Люк Скайвокер, волшебным мечом с виртуальным лезвием. Ты победитель перед собой, а уж передо мной тем более; этот мир что-нибудь да значит, да? Видишь, как много он значит? Подвиг второй: и ты уже видишь свои настоящие руки. Значит, ты приближаешься ко мне, сын: ты готов сказать что-то миру, а мир готов тебя приютить.
Слово смерть для тебя всегда равнялось слову жизнь; и вместе они равнялись всему, что у тебя есть: белым зданиям, ровным дорожкам, свистящему звуку, белой скатерти и блюдцу с яблоками. А это значит, что смерть – просто выдумка того, кого ты победил, и чьё имя никогда больше не прозвучит в твоём доме. Есть только жизнь.
Оживи теперь и восстань!
Пчелка вспорхнула с ободка стакана и тишина дрогнула. Серце забилось, отсчитывая Сердечные Секунды, единственное, чем меряется эта жизнь: то становясь быстрее, то, в самые ясные минуты, замедляясь до тишины. Ты поднимаешь голову, и в первый раз смотришь на меня этими глазами. Может быть, скоро ты научишься улыбаться. Да, это мы; в самом деле мы, сынок. Ты хорошо видишь в ярком свете.
Всё – ярко-белое с сиреневым и немного желтоватое.
Ты радуешься – я ликую, ты улыбаешься – я торжествую, ты делаешь шаг – мы побеждаем.
Позови меня, когда отдохнёшь и наберёшься сил: займёмся архитектурой; а пока – возьми лист бумаги и медленно обведи контур ладони фломастером. Я сделаю то же, а это значит, что мы пожимаем друг другу руки.
Как у вас говорят, когда уходят? Да, я неторопливо сваливаю, и только белый свет и тихий свистящий звук – моё имя – напоминает о том, что, как и прежде, мы снова вместе, моё возлюбленное чадо и мой верный друг.
Лёгкий аромат яблок.
Всё белое.
Current music: Dolphin - Утро
Комментарии [2]
23:38 14-07-2003
Ванёк и любовь
Любовь это творчество, — подумал Ванёк.
Тебя наполняет вязкая субстанция, подходящая к самому горлу, сердце начинает биться чуть чаще, кровяное давление становится чуть сильнее. Это происходит из-за выброса в кровь особых гормонов, что может быть вызвано звуками, запахами, зрительными и тактильными ощущениями. Но ты никогда, никогда не знаешь точно, из-за чего: увидел ли ты девушку, собаку, облако, соседа, цветок, девушку соседа или собаку девушки.
Любовь это творчество, — сказал Ванёк вслух.
Может быть, ты начинаешь острее видеть или острее слышать, но это лишь так кажется. На самом деле ты знаешь, что ты причастен ко всеобщему процессу, и кто-то так же наполнен этим веществом, как и ты. Кто-то тоже называет это аффинити, эйфорией, выбросом адреналина, влюблённостью, опьянённостью, пиком активности, повышенным давлением. Кто-то тоже знает, что ты есть и скучает по тебе, и ты чувствуешь себя отделенной частицей огромного океана, и ты возвращаешься долгой дорогой домой. Ты понимаешь то, что никогда не понимал, и никогда не поймёшь, а если и поймёшь, то сказать не сможешь.
Любовь это творчество, — записал Ванёк на листе бумаги.
В час ночи, вдвоем, прижимая её все сильнее, ты — чайник без терморегулятора, вскипаешь и выплёскиваешь то, что накопилось, но не то, что переполняет. И ты не можешь избавиться от жгучей ауры, ты будешь дробить камни, изводить в ручке чернила, елозить смычком по струнам, но оно не покинет тебя. И ты лежишь, и смотришь на неё, а она уже спит, но ты держишь её за руку, слегка сжимая, пытаясь угадать в темноте черты её лица, простые и знакомые при свете и такие таинственные сейчас.
Любовь не страсть, не привязанность и не слова. Любовь — она не к кому-то, она просто.
Любовь это творчество, — сказал Ванёк своей любимой.
— Ничего ты не понимаешь, — возразила она и улыбнулась:
— Любовь — это когда любишь.
Тебя наполняет вязкая субстанция, подходящая к самому горлу, сердце начинает биться чуть чаще, кровяное давление становится чуть сильнее. Это происходит из-за выброса в кровь особых гормонов, что может быть вызвано звуками, запахами, зрительными и тактильными ощущениями. Но ты никогда, никогда не знаешь точно, из-за чего: увидел ли ты девушку, собаку, облако, соседа, цветок, девушку соседа или собаку девушки.
Любовь это творчество, — сказал Ванёк вслух.
Может быть, ты начинаешь острее видеть или острее слышать, но это лишь так кажется. На самом деле ты знаешь, что ты причастен ко всеобщему процессу, и кто-то так же наполнен этим веществом, как и ты. Кто-то тоже называет это аффинити, эйфорией, выбросом адреналина, влюблённостью, опьянённостью, пиком активности, повышенным давлением. Кто-то тоже знает, что ты есть и скучает по тебе, и ты чувствуешь себя отделенной частицей огромного океана, и ты возвращаешься долгой дорогой домой. Ты понимаешь то, что никогда не понимал, и никогда не поймёшь, а если и поймёшь, то сказать не сможешь.
Любовь это творчество, — записал Ванёк на листе бумаги.
В час ночи, вдвоем, прижимая её все сильнее, ты — чайник без терморегулятора, вскипаешь и выплёскиваешь то, что накопилось, но не то, что переполняет. И ты не можешь избавиться от жгучей ауры, ты будешь дробить камни, изводить в ручке чернила, елозить смычком по струнам, но оно не покинет тебя. И ты лежишь, и смотришь на неё, а она уже спит, но ты держишь её за руку, слегка сжимая, пытаясь угадать в темноте черты её лица, простые и знакомые при свете и такие таинственные сейчас.
Любовь не страсть, не привязанность и не слова. Любовь — она не к кому-то, она просто.
Любовь это творчество, — сказал Ванёк своей любимой.
— Ничего ты не понимаешь, — возразила она и улыбнулась:
— Любовь — это когда любишь.
22:55 27-06-2003
Золото
…Удивляйтесь или нет, но Ванёк не любил теплое пиво. Горькое тоже не любил. А если плесенью пахло — так просто ненавидел, но все равно давился, не выливать же. Странно, но факт.
На этот раз повезло, и Ванёк переложил холодную банку их левой руки в правую, пальцам было неприятно от холодной жести. Слева, на соседней лавочке, была компания веселых и на вид достаточно интеллигентных молодых людей (достаточно — чтобы сидеть с ними по соседству было приятно), занимающихся примерно тем же, что и Ванёк, ну или по крайней мере пиво они тоже пили. Справа, дальше по треснутой асфальтовой дорожке синел пластиком биотуалет, что Ванёк почему-то отметил мимоходом как воодушевляющее обстоятельство.
А прямо перед взглядом был рекламный щит, отмечающий в доступной неискушенному гурману форме достоинства пива Балтика номер 5. Ванёк чуть двинул бровями и глянул на золотую банку в руке. Похоже… Что же. Вот такие мы продвинутые. Хотя причем здесь продвинутые, мы же не клинский понос пьем? Ванёк припал губами к отверстию в крышке. Ну вот, как раз нужная температура. Все-таки не очень удобно из банки, но что поделаешь, в бутылках-то пятерку не продают, а это было ваньковское любимое. То есть одно из.
Ванёк еще раз вчитался в плакат. Когда сидишь один, начинаешь забивать голову чем попало. Вообще думать вредно, да и пиво пить… Тьфу, сегодня пятница, успокоил он себя, сегодня можно. Люди, и чё это выдумывать оправдания, пью вот и все, вон те же интеллигенты пьют. Ванёк глотнул еще. Что там на щите? Пшеничный вкус? Какой-то есть. На этом месте Ванёк вдруг осознал, что надпись на плакате — не более чем надпись. Пшеничный! Никогда не задумывался, какая же на вкус пшеница. Он пил пиво и всё тут, нравилось потому что.
Чувствуя себя на пути к какой-то новой но непонятной пока идее, Ванёк сделал ещё пару глотков.
Вот идет тётка, ну прочитает она про вкус там и про золотое пиво России, но ведь она не сидит вот здесь, на лавочке, и не пьет его.
Ребята слева подняли вопрос о правильном пиве. О пиве можно много говорить, но что толку, если ты сейчас вот не сидишь здесь и не пьёшь его?
А с тем, кто не пил золотое — о чем говорить? Он же вообще ничего не понимает, и ему не объяснишь про характерный хлебный привкус и про запах, и про температуру. Ведь он не сидит и не пьёт его.
Ванёк хотел приложиться к полупустой баночке еще раз, но увидел, что вокруг летает оса, которая и прервала на некоторое время ход его мыслей. Ванёк сосредоточенно следил за полосатым насекомым, и думал, насколько она гармонирует с позолотой желтой банки. Оса, обнюхав продукт, улетела. А ведь мы тут с Настей в прошлом году сидели, вот на этом же месте и пятерку эту же пили, единственное, что ей нравилось из пива. Несуразно с ней как-то все получилось…
Так о чем можно говорить с теми, кто пробовал пятерку? Да, вкус тот же, но ведь кому-то он понравился, кому-то нет. И при чем здесь достоинства пива, с его пшеничным вкусом, будь он неладен, если не понравилось тебе? Да хоть трижды оно будет пшеничным, четырежды солодовым и живым-живее-всех-живых, но если тебе не понравилась эта гадость, то о чём можно говорить? Если ты сидел здесь и пил, и плевался, и прямо в эту вот урну недопитую выбросил — какими словами я докажу тебе, что его вкус лучше? Назову его божественным? Увы, подумал Ванёк, и слава Великому Пивовару, что никакие возвышенные слова не изменят твоего отношения к пятёрке.
А если… Если оно тебе нравится, то давай помолчим, посидим здесь и просто попьём? К черту, к черту дискуссии, к черту этих нажравшихся студентов слева и сраный толчок справа… Потому что пиво — это когда ты его пьёшь и оно нравится, иначе это не пиво, а так, ослиная моча. Ванёк почти допил свою банку и ощущал себя ужасно мудрым, он чувствовал, что где-то ещё тысячи любителей золотого пива сидят, так же смотрят на золотое заходящее солнце сквозь листву деревьев и радуются золоту молчания. И от того, что они тоже чувствуют его, Ваньку стало невообразимо хорошо.
Он распрощался с пустой банкой и подумал, сможет ли он теперь говорить о пиве?
Ванёк успокоил себя, что сможет, ведь есть моменты, когда он не пьёт пива… Подумав так, он встал, слегка пошатнувшись, и неспеша побрел в правую сторону.
На этот раз повезло, и Ванёк переложил холодную банку их левой руки в правую, пальцам было неприятно от холодной жести. Слева, на соседней лавочке, была компания веселых и на вид достаточно интеллигентных молодых людей (достаточно — чтобы сидеть с ними по соседству было приятно), занимающихся примерно тем же, что и Ванёк, ну или по крайней мере пиво они тоже пили. Справа, дальше по треснутой асфальтовой дорожке синел пластиком биотуалет, что Ванёк почему-то отметил мимоходом как воодушевляющее обстоятельство.
А прямо перед взглядом был рекламный щит, отмечающий в доступной неискушенному гурману форме достоинства пива Балтика номер 5. Ванёк чуть двинул бровями и глянул на золотую банку в руке. Похоже… Что же. Вот такие мы продвинутые. Хотя причем здесь продвинутые, мы же не клинский понос пьем? Ванёк припал губами к отверстию в крышке. Ну вот, как раз нужная температура. Все-таки не очень удобно из банки, но что поделаешь, в бутылках-то пятерку не продают, а это было ваньковское любимое. То есть одно из.
Ванёк еще раз вчитался в плакат. Когда сидишь один, начинаешь забивать голову чем попало. Вообще думать вредно, да и пиво пить… Тьфу, сегодня пятница, успокоил он себя, сегодня можно. Люди, и чё это выдумывать оправдания, пью вот и все, вон те же интеллигенты пьют. Ванёк глотнул еще. Что там на щите? Пшеничный вкус? Какой-то есть. На этом месте Ванёк вдруг осознал, что надпись на плакате — не более чем надпись. Пшеничный! Никогда не задумывался, какая же на вкус пшеница. Он пил пиво и всё тут, нравилось потому что.
Чувствуя себя на пути к какой-то новой но непонятной пока идее, Ванёк сделал ещё пару глотков.
Вот идет тётка, ну прочитает она про вкус там и про золотое пиво России, но ведь она не сидит вот здесь, на лавочке, и не пьет его.
Ребята слева подняли вопрос о правильном пиве. О пиве можно много говорить, но что толку, если ты сейчас вот не сидишь здесь и не пьёшь его?
А с тем, кто не пил золотое — о чем говорить? Он же вообще ничего не понимает, и ему не объяснишь про характерный хлебный привкус и про запах, и про температуру. Ведь он не сидит и не пьёт его.
Ванёк хотел приложиться к полупустой баночке еще раз, но увидел, что вокруг летает оса, которая и прервала на некоторое время ход его мыслей. Ванёк сосредоточенно следил за полосатым насекомым, и думал, насколько она гармонирует с позолотой желтой банки. Оса, обнюхав продукт, улетела. А ведь мы тут с Настей в прошлом году сидели, вот на этом же месте и пятерку эту же пили, единственное, что ей нравилось из пива. Несуразно с ней как-то все получилось…
Так о чем можно говорить с теми, кто пробовал пятерку? Да, вкус тот же, но ведь кому-то он понравился, кому-то нет. И при чем здесь достоинства пива, с его пшеничным вкусом, будь он неладен, если не понравилось тебе? Да хоть трижды оно будет пшеничным, четырежды солодовым и живым-живее-всех-живых, но если тебе не понравилась эта гадость, то о чём можно говорить? Если ты сидел здесь и пил, и плевался, и прямо в эту вот урну недопитую выбросил — какими словами я докажу тебе, что его вкус лучше? Назову его божественным? Увы, подумал Ванёк, и слава Великому Пивовару, что никакие возвышенные слова не изменят твоего отношения к пятёрке.
А если… Если оно тебе нравится, то давай помолчим, посидим здесь и просто попьём? К черту, к черту дискуссии, к черту этих нажравшихся студентов слева и сраный толчок справа… Потому что пиво — это когда ты его пьёшь и оно нравится, иначе это не пиво, а так, ослиная моча. Ванёк почти допил свою банку и ощущал себя ужасно мудрым, он чувствовал, что где-то ещё тысячи любителей золотого пива сидят, так же смотрят на золотое заходящее солнце сквозь листву деревьев и радуются золоту молчания. И от того, что они тоже чувствуют его, Ваньку стало невообразимо хорошо.
Он распрощался с пустой банкой и подумал, сможет ли он теперь говорить о пиве?
Ванёк успокоил себя, что сможет, ведь есть моменты, когда он не пьёт пива… Подумав так, он встал, слегка пошатнувшись, и неспеша побрел в правую сторону.
Группы: [ Оранжевая Книга ]
17:19 11-05-2003
Мелочь
— Прсссстите, изфффффините, — пьяный мужичок спешно продирался к выходу сквозь салон тесного пазика, наступая на ноги и незаметно опплевывая воротнички пассажиров на шипящих согласных. Свою остановку он заметил слишком поздно, чтобы несуетливо протолкнуться заранее. Ванёк стоял внизу, у самой двери, для устойчивости поставив одну ногу на верхнюю ступень. Мужичок подал девушке-кондуктору десятку и получил на сдачу пригоршню жёлто-красных монет.
— Девввушка, ну наффига такими мелкими-то? — мужичок тупо уставился на свою ладонь.
— А мне куда эти копейки девать? — парировала кондуктор и отвернулась.
— Нуу, блин… — мужичок все еще стоял с протянутой ладонью, словно ожидая небесной манны.
— Давайте поменяю, — неожиданно предложил Ванёк и протянул пятак. Мужичок взял монету и медленно высыпал ему пригоршню копеек. Автобус затормозил. Мужичок непонимающе уставился на странного паренька.
— Это моё хобби, — пояснил Ванёк.
— Мелочь коп-пишь? — вышел из задумчивости мужичок.
Лепестки дверей съёжились, отползая в сторону.
— Можно… и так сказать, — улыбнулся Ванёк и выскочил. У метро его уже ожидал что-то быстро лепетавший грязный цыганенок с протянутой рукой, и Ванёк, проходя мимо, ссыпал звенящее добро ему.
— Девввушка, ну наффига такими мелкими-то? — мужичок тупо уставился на свою ладонь.
— А мне куда эти копейки девать? — парировала кондуктор и отвернулась.
— Нуу, блин… — мужичок все еще стоял с протянутой ладонью, словно ожидая небесной манны.
— Давайте поменяю, — неожиданно предложил Ванёк и протянул пятак. Мужичок взял монету и медленно высыпал ему пригоршню копеек. Автобус затормозил. Мужичок непонимающе уставился на странного паренька.
— Это моё хобби, — пояснил Ванёк.
— Мелочь коп-пишь? — вышел из задумчивости мужичок.
Лепестки дверей съёжились, отползая в сторону.
— Можно… и так сказать, — улыбнулся Ванёк и выскочил. У метро его уже ожидал что-то быстро лепетавший грязный цыганенок с протянутой рукой, и Ванёк, проходя мимо, ссыпал звенящее добро ему.
Группы: [ Оранжевая Книга ]